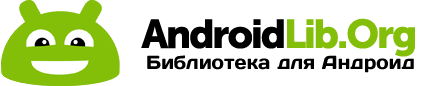AndroidLib » Читалка
Синие звезды Европы, зеленые звезды Азии
А с цепи рвется, весь исходя любовью и ревностью, пес по имени Светлый.
– Погоди, сейчас, сейчас, – кричу я и залезаю к нему в будку. Светлый одновременно визжит от восторга и поскуливает, жалуясь на то, что его посадили на цепь. Но иначе нельзя – он прыгает через забор и устраивает на базаре переполох. Поэтому до обеда, пока не разойдется базар, и сидит на цепи.
Светлого я нашла на улице маленьким щенком, и кто бы мог предположить, что он окажется чистопородной овчаркой – колли. Мы бы и сами об этом никогда не узнали, если бы однажды не пришел пограничник и не сказал деду, что хочет купить его для границы.
– Кого? – удивился дед. – Нашего кобеля?
– Да, – подтвердил пограничник. – Вашего кобеля.
– А где ж ты его видел? – опять удивился дед, хотя в этом не было ничего удивительного, потому что во внебазарное время пес носился с ночи до утра по улицам.
– Нет, не продам, – сказал дед, не дождавшись ответа, уточнявшего, где именно видел пограничник Светлого.
– Пятьсот рублей, – заметил пограничник, что было неслыханно дорого.
Тут дедушка уже удивился по-настоящему.
– За этого дурака-то?
– Выучим, это уж не ваша забота, – ответил пограничник.
– Шалавый пес, – сокрушенно сказал дед. – Беспутный. Он и двор-то не сторожит, чего ему на границе делать…
– Вот и продайте, раз шалавый, – пограничнику, видно, стал надоедать этот разговор.
– Нет, не продам, – твердо сказал дедушка.
– Вот чудной старик, – удивился теперь пограничник. – На что он вам, если шалавый и двор не сторожит?
– А так, привыкли, – и дед закрыл перед носом пограничника калитку.
Но тот уже за калиткой стал кричать, что если дед такой несознательный и не хочет продать собаку, то придется ее просто конфисковать, что в ближайшее время он и сделает.
– Ничего, это мы еще посмотрим, – уже не очень уверенно произнес дед. – Я завтра найду вашего главного военного, узнаю, можете ли вы частную собственность в образе собак конфисковывать.
И рано утром, надев парадную форму – белые парусиновые штаны и пиджак, дед отправился искать главного военного. Пришел он успокоенный, в прекрасном расположении духа и сказал, что главного военного нашел. Как я сейчас предполагаю – ходил он в военкомат и говорил с военкомом. Тот ему сказал, что отнимать собаку права не имеют. Тогда дед попросил выдать ему соответствующий документ, чтобы он мог показать его пограничнику. Но главный военный вроде бы рассмеялся и сказал, что документ такой выдать не может, но пусть дед запомнит его фамилию – Сафаров и сошлется на него, если придет пограничник. Но пограничник больше не пришел.
Со Светлым я обнимаюсь так же, как и с коровой. Хоть он не кормилица и вообще от него никакого проку, но люблю его даже больше коровы и мне от этого немного совестно.
Вдруг Светлый вырвался из будки и начал весело прыгать. Оказывается, это пришел Мамашка оставить мешки и попить чаю. И Светлому совершенно ясно, что базар кончается. Я тоже бегу пить чай, потом что очень люблю Мамашку. Зимой, когда выдаются холодные дни, он приходит, еще не расторговавшись, чтоб отогреть озябшие руки, чем сбивает с толку нашего Светлого.
Руки Мамашка держит прямо над раскаленной чугунной плитой, покряхтывая от удовольствия, пока они не отойдут от мороза и не станут красными.
Но сейчас тепло, и они с бабушкой пьют чай и ведут очень странную беседу. Бабушка говорит по-русски, а Мамашка по-таджикски, но такое впечатление, что они понимают друг друга. Может быть, потому, что Мамашка, как и мои бабушка с дедушкой, воспитывает внуков – детей погибших на войне сыновей. Бабушка говорит про то, что жизнь налаживается, что уже отменили карточки, что внуки, слава Богу, подрастают. И старик, по-моему, говорит то же самое, только по-таджикски.
Чай у нас не морковный, а настоящий, зеленый, и Мамашка крутит головой: «Ой, карашо, нагз…[7 - Нагз – хорошо]»
Потом базарчик наш перевели в другое, более подходящее место, мы потеряли из виду Мамашку, и даже думали, что он умер. Но однажды я, уже взрослой женщиной, вместе с мужем шла по большому базару по улице Путовского и вдруг услышала: «Гуля, Гуля», и увидела совсем дряхлого, старенького Мамашку, которому было уже, наверное, лет девяносто. Как в детстве, он протянул мне зеленую редьку…
И я сразу вспомнила наш базарчик. Вспомнила, как ела мешалду, как мы с мальчишками отвязывали ишака и катались на нем, пока увлеченный торговлей крестьянин не спохватывался и не обнаруживал пропажу. И как однажды я забралась на спину лежащего верблюда, а когда он неожиданно поднялся, испугалась высоты и заорала: «Мама…»
И еще вспомнила, как Мамашка приходил свататься за нашу бабушку Тоню. Бабушка Тоня, в отличие от бабушки Оли, очень быстро выучила таджикский язык и когда Мамашка заставал ее у нас дома, беседа принимала оживленный характер. Бабушка Тоня выступала в роли переводчика. Мамашка все горевал о своей жене-покойнице, сетуя на то, что вдвоем – он кивал при этом на моих бабушку и дедушку – внуков растить сподручнее, и однажды предложил бабушке Тоне перейти жить в его кибитку. Та, смущаясь, все же перевела его предложение. Бабушку Олю, которая относилась к Мамашке с явным расположением, озадачила его другая, мусульманская вера.
– Тут поживут, а на том свете все равно по разным углам, – сокрушенно говорила она.
Дедушка, не веривший ни в черта, ни в Бога, посоветовал бабушке Тоне выходить за Мамашку замуж, и так век прожила бобылихой. Но бабушка Тоня сказала, что жениться на старости лет – людей смешить и замуж не пошла. Однако с Мамашкой подружилась, частенько наведывала его, пока внучата были маленькие, и помогала по дому.
Бабушка Тоня пережила намного и моих стариков, и моего умершего молодым брата. Я была в отъезде, когда она покинула этот мир, а вернувшись, первым делом пошла не на могилу к ней, а вместе с сестрой Верой в тот поселок, где мы выросли, где торговал редькой на маленьком утреннем базаре Мамашка и где, на самом краю, у оврага, за которым начинались поля, жила бабушка Тоня.
По дороге сестра рассказала, что умерла бабушка Тоня быстро, немучительно. Прибралась в доме и вышла на солнышко посидеть, погреть свои старые кости. Да не дошла до скамейки – упала. И будто бы никого не звала и ничего не просила взять из рук, а только сказала:
– Хорошо-то как, господи! Солнышко…
ГЛАВА II
Пока Алина Николаевна отправляла контейнер, соседи «обустроили», как могли, их быт. Два раскладывающихся кресла, столик, кухонная утварь – чайник, кастрюлька, несколько пиал вполне достаточно, чтобы прожить одну-две недели, пока оформят продажу квартиры и достанут билет на самолет. На душе сразу полегчало. А самое главное – старый, чернобелый, но вполне сносно показывающий телевизор. Его принес Махсум. Он не был литератором, он был сыном самого знаменитого таджикского поэта, еще при жизни зачисленного в классики. Когда отец умер, они с сестрой отдали роскошный особняк под музей Поэта, а взамен им выделили две квартиры на одной лестничной площадке в писательском доме.
– Ну, как, – спросил Константин Леонидович, – Обошлось без проблем?
Алина отвела глаза:
– Все нормально, отправили.
– Что-то непохоже, что нормально, – вздохнул он, вглядываясь в лицо жены, и, поскольку Алина не отреагировала на его слова, добавил: – Вообще-то обойти таможню, это сама понимаешь, нарушить закон. Представляешь, что можно отправить в контейнере? И оружие, и наркотики…
Наверное, хотел таким образом утешить: что ж, мол, если все-таки досматривали, значит, так надо.
– Костя, милый! Да какие тут законы сейчас, о чем ты? Вывозят, кому надо, и оружие, и наркотики, не сомневайся, только платят побольше, чем мы заплатили, – голос предательски задрожал. Алина готова была опять сорваться на плач.
– Аля, тебя там обидели?
Алина улыбнулась сквозь слезы и лишь покачала головой. Обидели, были не слишком учтивы, не поняли – все это из плоскости других взаимоотношений.
Вообще с той самой поры, когда появились первые лозунги «Русские, убирайтесь вон» или, того хуже – «Русские, оставайтесь, нам нужны рабы», существование казалось Алине зыбким не только оттого, что могли убить в любую минуту, это была духовная зыбкость, ощущение ирреальности происходящего. Словно страшный сон, который невозможно стряхнуть, и хочется крикнуть, что есть сил, но онемевшие губы не размыкаются, крик комком застревает в горле. Особенно остро такое состояние охватывало перед телевизором.
Ни одна из телевизионных программ не обходилась без слов в поддержку «молодой Таджикской демократии, борцов за независимость республики и роста национального самосознания», в то время как поднимали голову исламские фундаменталисты, ваххобиты. И даже после черного февраля 90-го года с экранов ЦТ неслось возмущенное: «молодую демократию пытаются затоптать сапогами русских солдат… В столицу Таджикистана введены войска… Преступное правительство отдало приказ стрелять в свой народ…»
Вы что, ребята, с ума там посходили? Ничего не знаете или не хотите знать? По вашему, это демократы жгли и крушили прекрасный город? Борцы за независимость затаскивали в пустые автобусы русских женщин, а также таджичек, одетых по-европейски, зверски насиловали, а потом выбрасывали их, полуодетых и полуживых? Это возросшее национальное самосознание позволяло им врываться в квартиры русских и расстреливать целые семьи?
Алина металась по квартире, не в силах успокоиться.
– Костя, ну ты подумай, что они говорят! Ведь если бы не ввели войска, нас, как и многих, уже бы не было в живых. Это же, как дважды два. Войска ввели поздно, это да… Вот о чем надо бы говорить. И вообще, можно же рассуждать логически: если озверевшая толпа (свой народ), кинулась убивать мирных жителей (тоже свой народ), что все-таки лучше: позволить убивать или остановить ее силой? Нельзя же все выворачивать наизнанку. Нет, что-то они там не понимают. Надо что-то делать, писать…
– Алина, ты уже сама не в состоянии мыслить логически. Все все знают. Ну, посуди – это же не вчера все началось. Работали фискальные службы. Здесь живут собкоры многих центральных газет, приезжают спецкоры… Да сколько душанбинцев разлетелось по всему свету? Честное слово, ты как ребенок, такую ерунду говоришь.
Но Алина не отступалась, писала, передавала свои статьи с отъезжающими в Москву. Не печатали, не отвечали. Не докричаться, не стряхнуть тяжелого сна…
И все-таки, пытаясь осмыслить отношение Москвы к тому, что творилось в Таджикистане, однажды, как ей показалось, она дошла до сути. Скорее всего, исламские фундаменталисты должны были свергнуть коммунистический режим республики, а «за ценой мы, как всегда, не постоим!»
Вспомнила, как демонтировали памятник Ленину. Монумент вождя с указующим перстом в центре города давно уже ничего, кроме раздражения, у них с Костей не вызывал, но, Господи, как они его «демонтировали»! Свалив огромный памятник, железными прутьями отбивали на руках пальцы, выдалбливали глаза, забравшись на него, устроили дикие танцы, наконец, мочились… Недели две, пока бандиты удерживали город, таджикское телевидение без конца транслировало эту хронику. Смотреть было страшно и жутко.
– Ну, ладно. – Рассуждала Алина. – Предположим, с коммунистами они справятся. Но кто потом справится с ними? Неужели Афганистан никого ничему не научил?
Ответа на этот вопрос не было.
На ночь разложили кресла, поставив их рядом, так, чтобы можно было дотянуться друг до друга, взяться за руки. Ночи были тревожными, со стороны реки Душанбинки время от времени доносились одиночные выстрелы, – к ним, насколько возможно, успели привыкнуть. Хуже было другое – вой голодных зверей из зоопарка, когда-то считавшегося одним из лучших в Союзе. Располагался он совсем недалеко от их дома, – одна коротенькая троллейбусная остановка. Когда-то Алина водила по выходным дням туда детей, потом они бегали сами.
Теперь зоопарк вымирал. Оленей, лосей, других парнокопытных убивали на мясо. Дикие звери были никому не нужны. По ночам их вой выворачивал душу. Алина прятала голову под подушку, зажимала ладонями уши, но это не помогало. Вот раздался трубной плач слона, вот тоскливо растянутый рык льва, а это завывают волки…
Поднималось давление, но Алине казалось, что это леденящий душу вой пульсирует, бьется в голове и вот-вот разорвет ее изнутри.
Часам к трем звери, видимо, обессилев, затихали. Вот и сегодня наступила, наконец, благословенная тишина. Ничего, кроме ровного дыхания мужа. Алина потянулась к нему, прижалась щекой к щеке, и Костя, не просыпаясь, дотронулся теплыми губами до ее уха.
Все, успокоиться и уснуть. А пока не уснула, думать только о хорошем, о будущем. Конечно, хорошего было мало, а будущее проглядывалось смутно. И все же, и все же…
Едут они не в никуда, как многие, а к сыну Андрею, во Владимир, город, странно обозначившийся в их судьбе. Когда-то Алин брат Витюня, в ту пору студент московского ВУЗа, поехал на зимние каникулы в гости к сокурснику. И надо же, – встретил там свою судьбу, женился и, окончив институт, в Душанбе не вернулся. К сожалению, умер молодым, в 35 лет. Но зато там, в далеком Владимире, есть родная могила, живет его семья: жена и дочка.
И вот ведь какая круговерть получается. Много лет спустя, сын, Андрей, в ту пору молодой ученый биолог, улетел в Москву, как сказал родителям, по делам, связанным с защитой кандидатской диссертации. Из Москвы завернул во Владимир навестить жену Витюни и познакомиться с двоюродной сестрой Ларисой, которую никогда не видел и… тоже влюбился во владимирскую девушку. Не надолго приехав в Душанбе, отказался от защиты, уволился с работы. Уверял, что давно думал заняться бизнесом, а во Владимире такая возможность есть, что в Москву ездил, на самом деле, чтобы поступить в экономическую академию – и поступил… «Сейчас другое время, быть нищим ученым я не хочу».
Для Алины и Кости понятие «бизнес», «коммерция» были чем-то чужеродным, даже пугающим. Но отговаривать сына не стали, да он бы и не послушал. Между тем дела у Андрея шли, видимо, неплохо: когда в Таджикистане началась гражданская война, стал передавать с оказией деньги и продуктовые посылки, настаивал на их немедленном переезде, обещал всяческую поддержку. Но они все тянули, все надеялись, что образуется…
Был и еще один знаковый момент. Недавно, – писал сын, главным военкомом области был назначен генерал-майор Николай Алексеевич Сеньшов, бывший командующий 201 дивизии, базирующейся в Таджикистане. Это он 11 февраля ввел войска в Душанбе, когда все они были на волоске от смерти. Много позже Алина узнает, что он целый день звонил в Москву Язову, докладывая обстановку, но тот тянул, мямлил и так и не дал приказа. Сеньшов всю ответственность взял на себя…
Значит, чем-то предопределен для них этот город, значит, судьба – уговаривала себя Алина, изначально намереваясь думать о хорошем.
Опять же – любимая младшая дочь, похожая на отца красавица Сашенька живет в Ленинграде. Как уехала учиться после школы, так и осталась там. Вышла замуж, но неудачно, разошлись, теперь мается в каком-то рабочем общежитии с маленькой дочкой. Одна была радость – каждый год приезжала в отпуск к родителям, но вот уже три года не виделись. А Владимир от Ленинграда недалеко. – Россия, одним словом. Может быть, вообще съедутся, станут жить вместе.
Старшая дочь Лена живет пока здесь, в Душанбе, работает в «Вечерке», газете, которая в последние годы из информационно-развлекательной превратилась в боевой листок. Летает с военными из 201 девизии на вертолетах в командировки не то что в горячие, а в горящие точки. Уезжать они договорились вместе. У Лены своя однокомнатная квартира тоже в центре города, осталась от мужа. Насчет продажи она тоже договорилась со знакомым кинооператором. Зять Фима уехал в Израиль три года назад, она наотрез отказалась: здесь я журналистка, там буду посудомойкой, если повезет. И вообще человеком второго сорта.
Алина тогда резко ее оборвала:
– Просто ты никогда не любила Фиму по-настоящему. Я за твоим отцом на край света пешком бы пошла.
Так или иначе – осталась с восьмилетним сыном Димкой. На время командировок подкидывает внука бабушке с дедушкой. Правда, вот уже два месяца, как у нее появилась жилица. Знакомый офицер-пограничник привел к ней молодую девушку, одетую в огромную солдатскую шинель поверх мужского белья. Рассказал:
– Вот такая неудача. Приехала из России к брату на заставу, в Московский район, а заставу всю вырезали, ее с собой захватили. Вчера отбили, живая, слава Богу. Ты, Лена, переодень ее во что-нибудь женское, пусть отлежится, а мы через недельку бортом в Москву отправим, там недалеко от дома, доберется на электричке.
Несколько суток Настя, так звали девушку, пролежала в постели и была словно в забытье. Потом стала потихоньку двигаться, разговаривать. Пограничник появился, как обещал, через неделю, сказал, что завтра отправят, пусть будет готова. Однако когда Алина позвонила дочери через три дня, оказалось, что Настя все еще никуда не улетела.
– Что, не приехали за ней? – поинтересовалась она.
– Приезжали, – ответила Лена, – но Настя не смогла улететь. У нее сильное кровотечение.
– В больницу ходили?
– Нет. Она не хочет…
Алина пошла к дочери разобраться, в чем дело.
Глянула на Настю, – та как тень, ни кровиночки в лице.
– Ты что, Лена, – возмутилась Алина, – соображаешь хоть что-нибудь? Ну, она не в себе, а ты как, нормальная? Мало у нас в моргах невостребованных трупов?
Родильный дом от Лены через дорогу, там же женская консультация, в городе, к счастью, затишье, выстрелы слышны только по ночам. Неужели трудно было сходить?
– Быстро в душ и одеваться! – скомандовала Алина, и Настя молча повиновалась.
В роддоме Алина нашла свою знакомую – пожилую армянку Ануш Хачатуровну, акушера-гинеколога, попросила посмотреть девушку. Полная, шумная Ануш обняла Алину:
– Конечно, посмотрю, сейчас посмотрю, дорогая… Я думала, вы уехали. У меня все друзья уехали. Евреи в Израиль, немцы в Германию, русские в Россию. Нам куда ехать? Здесь воюют, в Армении тоже воюют. Что за жизнь… Ну, пойдем, девочка, пойдем дорогая.
Вернулась минут через сорок, без Насти.
– Алина, она кто тебе? – Не дождавшись ответа, запричитала: – Что они с ней сделали, звери, звери… Сколько человек насиловали? Она сама не знает. Или не говорит… Веришь, я такие разрывы только после тяжелых родов видела. Швы накладывать надо. Как кровью не истекла, а? Как заражение не случилось? Ай-ай-ай… Бедная девочка, она ведь девственница была…
Через несколько дней Лена забрала Настю домой, но пограничники, видимо, о ней забыли.
Ты бы подсуетилась, Лена, напомнила бы им или попросила военных из 201-й, пусть отправят девушку.
Та обещала, но неохотно, отговариваясь делами, пока однажды не заявила:
– А куда ей ехать? Мать умерла, только брат и оставался, теперь и его нет. Пусть живет.