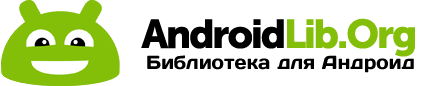AndroidLib » Читалка
Синие звезды Европы, зеленые звезды Азии
Тут, я помню, выражала сомнение в том, что комсомолка Даша приходила просить бабушку Тоню. Потому что в ту пору уже была комсомолкой моя старшая сестра Вера, и я знала, что комсомольцам не положено верить в такое. Тогда моя бабушка Оля, не раз рассказывавшая мне эту историю, обижалась и говорила, что если я не верю, то зачем тогда пристаю, и продолжала лишь после того, как я изрядно надоедала ей своим канючаньем.
И вот однажды поутру, выйдя из дома, бабушка Тоня увидела некогда красавца-парня под своим крыльцом мертвым. Она взяла его на руки, ведь он был легонький, как малое дитя, потому что совершенно высох, и отнесла его к комсомолке Даше. Вдвоем они его и похоронили. И бабушка Тоня так и не вышла никогда замуж. А глаз у нее становился все дурнее и дурнее, и поселковые прятали от него и малых детей, и скотину, чтобы ненароком не сглазила.
Но кто бы подумал, что бабушка Тоня уйдет на гражданскую войну и будет санитаркой в отряде красноармейцев. И хоть называлась она просто санитаркой, на самом деле врачевала раны разными травами и даже заговаривала. А красный командир был от бабушки Тони без ума и никогда с ней не расставался. И она отводила от него вражеские штыки и пули. И только один раз, отправляясь в особенно тяжелый бой, уговорил ее остаться, ссылаясь на то, что в отряде много раненых и их нельзя оставлять без присмотра, а на самом деле боялся за бабушку Тоню, потому что любил ее больше жизни. Однако бабушка Тоня разгадала такой маневр и наотрез отказалась остаться. На командир очень рассердился и сказал, что приказывает ей это как красный командир красному бойцу. И что если она не послушает приказа, значит, изменит делу революции. После этого бабушке Тоне ничего не оставалось делать. Но в этом бою красный командир сложил свою голову. Бойцы принесли его на шинели уже остывшего. И бабушка ничего не могла сделать. А если бы он был еще не остывший, если в нем хоть немножко теплилась бы жизнь, она, конечно, оживила бы его своими колдовскими чарами.
Мне было очень жаль, что к тому времени, когда бабушка Тоня воевала с красным командиром, уже не было в живых высохшего жениха из милиции. Потому что, мне кажется, тогда бы он просто так высох, от жалости и позднего раскаяния. И еще я думаю, что бабушка Тоня тоже полюбила этого красного командира, и, наверное, нарушила бы обет безбрачия, который, по-видимому, дала после того, как высох ее жених. Но окончательно убедившись после гибели командира, что в любви ей не везет, перестала раз и навсегда о ней даже думать.
Вот такая смелая, не похожая на других бабушек, была бабушка Тоня. И больше всего она была непохожа на свою сестру, мою родную бабушку Олю, которая по характеру была очень мягкая, хотя, конечно, и в ее жизни были поступки решительные и смелые. Взять хотя бы ее замужество…
Ей было пятнадцать лет, когда к священнику в дом пришел хромой, почти тридцатилетний да еще рыжий мастер по швейным машинкам. Увидев хорошенькую сиротку, он через несколько дней прислал сватов. Семья Ивана пользовалась на редкость дурной славой. Его вдовый отец не обвенчался, как положено, с новой молодой женой, а жил с ней как с сожительницей. Причем, эта сожительница не только сама курила, но научила курить двух сестер Ивана, девок-перестарок, которых, может быть, поэтому никто и не засватал, что отец жил невенчанным, да и были они в селе люди сравнительно новые, невесть откуда взявшиеся, и ко всему этому не ходили в церковь.
И тогда-то, пожалев мою бабушку Олю, кто-то написал священнику записку такого содержания: «Если вам сироту не жалко, то лучше наденьте ей камень на шею да утопите в реке». А река в их селе Рудня Балашовской области действительно была, называлась она Хопер. Но священник, естественно, топить бабушку Олю не стал, а согласился выдать ее замуж. Но что самое удивительное, бабушка Оля не была против. Неизвестно, почему, но и ей приглянулся хоть хромой, хоть рыжий и старый, но все-таки симпатичный мастер по швейным машинкам. В общем, бабушка Оля стала на 16-м году женой моего дедушки Ивана, и, как она говорила, никогда не покаялась в этом. В доме мужа ее жалели и лелеяли, а отец моего деда иначе как кудряшечкой, – потому что бабушка Оля была неистово кудрява, – не называл. Дед был мастеровой, знал немало ремесел, даже печи сам клал, а бабушка Оля родила ему шесть детей, пять девочек и одного сына Николеньку.
Дед Иван детей любил без ума, о чем я сама знала, судя по тому, как он любил нас, внуков. Но характер у него был одновременно и очень добрый, и вспыльчивый. А ругался он так, как больше не умел никто. Рассердившись, кричал: «Родимец тебя расшиби». Я очень долго думала, что родимец – это что-то вроде сердитого бога, который должен ударить и расшибить человека. И только став взрослой, узнала, что родимец – это болезнь, которую дед мой призывал на голову разгневавших его людей.
Бабушка Оля рассказывает, что однажды я, лежа в люльке, ни с того ни с сего раскричалась, а она хотела во что бы то ни стало доварить борщ и уговаривала меня ласковыми словами, просила потерпеть. Но я, однако, ни на какие уговоры не шла, и орала что есть мочи. Дед под этот мой крик незаметно вошел в дом. Постояв минутку-другую, грозно осведомился у бабушки Оли, не оглохла ли она, на что та виновато ответила, что хочет доварить обед.
– Ах ты, родимец тебя расшиби! – заругался дед. – Ребенок, значит, разрывается, а ей борщ приспичил!
И, подскочив на хромой ноге, взял кастрюлю и опрокинул ее наземь. И вся семья осталась без ужина, что по тем временам было очень даже плохо. Но дедушка, тут же успокоившись, сказал:
– Ничего, чайку попьем.
Вспышки такого, часто неоправданного гнева мне не раз приходилось видеть, но я нисколько не боялась. Я только ждала, когда дед что-нибудь бросит на пол или крепко стукнет кулаком по столу. Тогда, объясняла бабушка Оля, он отходит сердцем. Она даже старалась подсунуть ему деревянную миску либо железную кружку, чтоб те не разбились. И подбирала их со словами: «вот и хорошо, и слава Богу…»
И еще был, пожалуй, один решительный поступок со стороны бабушки Оли, в котором, однако, есть кое-какие сомнительные моменты.
Дед мой, который из-за хромой ноги в гражданскую не мог воевать, ушел в дальние края на заработки – плотничать, чинить швейные машинки да класть печи. В это время шли в Рудне ожесточенные бои, и бабушка Оля спасла раненого красногвардейца.
– Захожу в сарай за сеном, корову накормить, – рассказывает бабушка, – слышу, а в сене кто-то дышит. Я перекрестилась: батюшки-светы… Пригнулась: человек весь кровью залитый…
В общем, выходила бабушка красногвардейца. И мне эта история из бабушкиной биографии очень нравилась. Но однажды черт меня дернул спросить:
– Бабушка Оля, а откуда ты знаешь, что это был красноармеец?
Бабушка Оля посмотрела на меня, помолчала и сказала:
– Так мне думалось.
– А может, это беляк был?
– Все может быть, – согласилась спокойно бабушка Оля. – Я тогда про это не думала…
– Да как же так, – заплакала я, – это же был наш враг.
Бабушка Оля махнула рукой:
– Какой там враг… Ему всего-то лет семнадцать было…
Мне хотелось помочь вспомнить бабушке Оле, что это был именно красноармеец.
– Бабушка, – умоляла я. – Ну, подумай, кто тогда отступал?
– Кажется, красные, – неуверенно говорила бабушка. – Или нет, белые… Забыла я…
– Ну, а кто деревню занял, помнишь?
– Вроде зеленые…
Вот такой невыясненный факт остался в биографии моей бабушки Оли.
Но, пожалуй, самым решительным и по-настоящему мужественным поступком со стороны бабушки был отъезд из родной Рудни в Душанбе, вслед за моими родителями, геологами, которые по комсомольской путевке поехали в молодую республику, так нуждавшуюся в молодых специалистах.
К тому времени родилась моя старшая сестра Вера, а меня и моего брата Витюни еще на свете не было, когда дедушка единственный раз, по его признанию, предоставил бабушке Оле самой решать такой жизненно важный вопрос, и она сказала: поедем.
Уже весь скарб собрали, и во дворе стояла загруженная телега, чтоб везти нас к поезду, – вспоминает бабушка Оля, я вошла в свою хату, поклонилась в тот угол, где висела икона и говорю: «Ну пошли, пора, батюшка».
– Это ты кому, божьей матери?
– Домовому, – шепчет бабушка Оля. – Домового если не позвать, он может обидеться и сам не пойти…
– А зачем он нужен?
– Эко, скажешь… – бабушка Оля смотрит с укоризной. – Как-же без него…
С домовым у нее свои сложные отношения. Он вроде бы и очень хорошо относится к бабушке Оле – не щекочет ее и не душит, и о несчастьях предупреждает, но помочь, видно, не может.
Так, перед войной, когда нас с братом еще не было на свете, он всю ночь кряхтел и стонал, и вздыхал. Наконец, бабушка, понимая, что он хочет и никак не решится сказать ей о какой-то надвигающейся беде, решила помочь ему:
– К добру, батюшка, или к худу? – спросила она, и домовой ответил:
– Ох, к худу…
А утром объявили войну.
И еще раз предупредил он ее о несчастье: перед гибелью моей мамы. Тогда нас у нее стало уже трое. Я появилась на свет огненно-рыжей, похожей на своего дедушку Ивана. Это потом мои волосы посветлели, стали золотистыми. А тогда решили, что самое подходящее имя для меня – Аля, только долго ломали голову – каким должно быть полное – Альбина? Алевтина? Алла? Остановились на Алине… Младшего брата назвали Витей в память о священнике, воспитавшем бабушку. А через несколько лет погибла в самолетной катастрофе мама. И тоже накануне вздыхал, всхлипывал домовой.
Конечно, вроде бы какой смысл в предупреждении домового, если избежать несчастья невозможно? Но, оказывается, есть у него и другие заботы. Вот, например, в послевоенные годы, когда в Средней Азии, а может, и во всей стране, было полно шпаны и о кражах слышалось то и дело, в наш дом ни разу не залезли воры, в чем, как считала бабушка, заслуга полностью домового. Правда, я не знаю, что бы воры смогли найти тогда в нашем доме, но это уже другой вопрос.
Наш домовой, кроме прочего, был еще и большой шутник. Иногда поутру никак не найдешь брошенную с вечера майку или тапочки. И уже пускаешься в рев, как бабушка скажет: Ну-ка, успокойся, да попроси: «батюшка-домовой, поиграй да отдай». Я тут же успокаивалась и начинала подсматривать: куда же он бросил мою маечку? И находила ее либо под кроватью, либо еще где…
… Бабушки Оля и Тоня пьют морковный чай с сахарином и говорят о неинтересном. Я перестаю слушать, задумываюсь и мечтаю о том, чтобы оказаться поблизости, когда будет умирать бабушка Тоня, хотя я ее люблю и не хочу, чтоб она умирала. Зато уж обязательно возьму у нее из рук веник или какой другой предмет. И если изменит мне парень-красавец, непременно высушу его. Однажды я даже поделилась своей мечтой с бабушкой Олей, чем очень напугала ее.
– Упаси тебя Бог! Колдуньи-то они все несчастные. У них так на роду написано…
Я уже задремала со своей колотушкой за печкой, когда в дом ворвалась соседка Сидоровна. Оказывается, ей кто-то сказал, что к нам пришла бабушка Тоня, и она прибежала, чтобы излить ей свою обиду.
Дело в том, что на днях у Сидоровны сдохла коза, которая им молока давала почти как корова, и шерсть с нее настригали на носки ребятам, и вообще была хорошая и здоровая коза, а сдохла, как считает Сидоровна, от дурного глаза моей бабушки Тони.
– Ой, да как же это я не укараулила, – причитает Сидоровна, и проклинает бабушку Тоню, грозит, что отольются ей слезы малых детей…
Мне жалко и козу, и Сидоровну, и бабушку Тоню, которая ни слова не произносит в ответ на обвинение нашей соседки, молча встает, крепче подвязывает платок под подбородком и выходит из дому.
Я бегу за ней и прошу:
– Бабушка Тоня! Скажи, что ты нечаянно глянула на козу. Ты ведь правда не хотела, чтоб у Сидоровны детишки без молока остались?
– Дите глупое, – бабушка Тоня гладит меня по голове. – Да неужто и ты думаешь, что коза с дурного глазу подохла?
– А с чего же? – удивляюсь я.
– Кто его знает, с чего… Может, съела чего нехорошее или клещ внутренний напал…
– Почему же ты не сказала это Сидоровне?
– Не поверит, – удрученно говорит бабушка Тоня. Я замечаю у нее в глазах слезы, но все же спрашиваю:
– Бабушка Тоня! Но ведь все знают, что ты колдунья. Ребятишек-то как лечишь?
– Травами лечу, тут колдовать не надо. А вывихи вправлять да кости сломанные на место ставить еще в гражданскую научилась.
Тогда я решаюсь на крайнее:
– Бабушка Тоня! А как же это ты без колдовства жениха высушила? Или это все тоже неправда?
– Не я, а совесть его высушила, – говорил бабушка Тоня.
Вся в смятении, я провожаю ее до самого домика, до ветхой избушки, которая, как и некогда в Рудне, стоит у самого края нашего поселка – дальше идут уже хлопковые поля. Бабушка Тоня, хоть и поехала в Среднюю Азию следом за сестрой, но верная себе, жила одиноко. И что удивительно – ее очень любили таджики, водили к ней своих больных ребятишек, а вот русские сторонились, хотя вовсе и не чурались ее помощи. Та же Сидоровна приходила однажды со слезящимся, красным глазом – никак не могла достать соринку. А бабушка Тоня из глаза что хочешь достанет языком. Я удивляюсь – не противно ли ей языком в глаза чужого человека лазить, однажды, когда она достала таким образом соринку у рыбака-выпивохи, спросила ее об этом.
– Чище глаза ничего нет, – сказала бабушка Тоня. – Он слезой омывается…
… Раннее утро. Я просыпаюсь от негромкой перебранки, с которой начинается каждый день в нашем доме.
Дело в том, что бабушка Оля каждый день встает в пять утра, а дедушка любит поспать подольше. Теперь-то я понимаю, бабушка Оля была жаворонком, а дедушка – совой, потому-то и ложился дедушка поздно и все ворочался, не засыпал. А бабушка Оля, чуть смеркалось, начинала подремывать. Но они-то не знали про такое психологическое разделение людей, а потому бабушка Оля, которая к семи часам уже побывала на базаре, разожгла печь, подоила корову и начистила картошки на завтрак, начинала ворчать:
– Господи! И как это можно столько спать, куда только сон лезет…
Дед, в белой исподней рубахе и кальсонах садился на кровати, и сетка под ним сурово трещала.
– Ну, посплю я, так что тебе от этого? Жалко, что ли?
– Да спи, пожалуйста, – пожимала плечами бабушка. – Ты мне что, нужен? Спи! Я только удивляюсь – как это можно столько спать?
Мне смешно, потому что ссора это ненастоящая, незлая.
Дед опять ложится и начинает похрапывать. Но бабушка не успокаивается.
– А потом жалуется – голова болит, – говорит она, ни к кому не обращаясь. – Как же не будет болеть – столько спать?
Я знаю, что сейчас будет, и жду.
– Черт бы тебя побрал, – кричит дед и, вскакивая, натягивает на себя рубаху и штаны. – Ну, встал, встал! Потешила душеньку? Ишь ведь как тебе пригорело!
Дед садился на табурет, – а сидел он, между прочим, совершенно замечательно: одну ногу под себя, другую сгибал в колене и пристраивал тут же на табурете, и начинал мрачно крутить козью ножку.
Бабушка Оля принимается будить нас, детей. Вера вставала сразу, она была очень послушная. Мы же с Витюней старались урвать минуту-другую и понежиться в постели. Будила нас бабушка ласково, не раздражаясь, но особенно нежной была к брату.
А вот уж и солнышко встало, смотрит: что это Витюня заспался… Ишь, в окошко заглядывает…
Вообще брата бабушка Оля и дедушка любили больше всех. Может быть, потому, что он был один мальчик. Из своих детей они тоже больше всех любили Коленьку. Но мне теперь кажется, что бабушка Оля чувствовала, каким коротким будет его век и старалась одаривать его любовью в концентрированном виде, зная, что на его долю выпадет ее не так уж много. Брат умер рано.
Вера была чернявая, похожая на маму и очень худенькая, но никогда не болела. Я же, наоборот, розовощекая и толстая, но болела постоянно и поэтому сердилась на сестру, будто она присвоила обличье, приличествующее мне. А у Витюни были необыкновенные глаза, будто он чему-то одновременно и удивлялся, и радовался. И это детское выражение глаз сохранилось у него на всю жизнь.
Я еще не хожу в школу. Мне, правда, восьмой год, но тогда брали в школу с восьми. Торопиться некуда, но я тоже встаю. Прислушиваюсь к шуму базара – он расположен прямо у нас под окнами. Одеваюсь и выскакиваю, словно ныряю сразу в это цветастое многоголосье. Наверное, с той самой поры я люблю по сей день наши душанбинские базары. Меня знают почти все продавцы, потому что многие, не распродав товар, оставляют его на ночь в нашем дворе. Бегу, поеживаясь от утреннего холода. Подпрыгиваю и напеваю: ой, какие красивые помидоры, какие красивые дыни, ой, какая зеленая травка…
Но я не останавливаюсь ни у помидор, ни у дынь. Бегу в самый конец базара, мимо фруктов и овощей, зеленого клевера, снопами продававшегося на корм скоту, мимо огурцов и арбузов. Бегу туда, где продается мешалда. Не знаю, есть ли другое, более правильное или русское название у этой вкуснятины – не знаю, потому что сейчас она совершенно исчезла с наших базаров. А что это такое – попытаюсь объяснить. Это взбитый с сахаром мыльный корень. Но тогда, слава богу, я этого не знала. Знала только, что это вкусно-превкусно. Позже я пыталась сравнить мешалду со взбитыми сливками или взбитыми белками яиц – но мешалда еще воздушней, еще белее, еще вкуснее.
– А, келимка![5 - Янга – сноха. Янгашкой в шутку называли маленьких девочек] – кричит рыжий-рыжий, единственный рыжий на всем базаре таджик.
Я вынимаю рубль, который выпросила с вечера у дедушки, подставляю захваченную из дома пиалку, и он щедро, с походом кладет мне эту воздушную массу, это белое облако, это объедение.
Назад бегу вприпрыжку. Но время от времени останавливаюсь и облизываю верхнюю часть белой горки, возвышающейся над пиалой.
И вдруг слышу: «Гуля, Гуля!». Это меня. Это бабушкин приятель, который всегда оставляет у нас свои мешки, зимой приходит погреться, а в другое время просто так, выпить пиалу чая. Меня он очень любит, но вместо Али зовет на таджикский манер Гулей. А бабушку мою зовет Мамашкой, хотя сам тоже старый, еще старше нее. И мы, едва он постучит в окно, кричим: «Мамашка пришел». Так и привыкли. Я кричу: «Салом, Мамашка!».
– Ой, Гуля, – радуется он и дает мне две большие зеленые редьки, потому что торгует Мамашка редькой.
– Приходи чай пить, Мамашка, – зову я.
– Хоп-хоп,[6 - Хоп-хоп – ладно, ладно] – кивает он.
Прихожу домой, угощаю мешалдой бабушку Олю и дедушку, они отказываются и я доедаю ее всю и облизываю пиалку.
Теперь во двор. Я еще не видела сегодня корову, нашу красавицу, нашу кормилицу, как говорит бабушка Оля. Она серая, комолая, что, оказывается, значит безрогая. У меня для нее гостинец – кусочек хлеба, посыпанный солью. Она осторожно берет губами хлеб, а потом еще долго лижет мне руки шершавым языком. Тут же, за загородкой, куры. Заглядываю в гнездо – сидит пеструшка. Жду, когда она встанет, раскудахчется и я принесу в дом яичко. Но она никак не встает, и я волнуюсь, не собралась ли в наседки. А наседка у нас уже есть, уже скоро должны быть цыплята. Подхожу к гнезду – хвать, и курица у меня в руках. Щупаю толстую пушистую попку и чувствую под рукой твердую округлость. Значит, яичко есть.