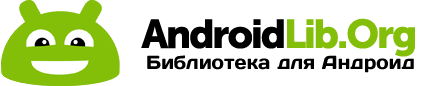AndroidLib » Читалка
Муравьиный царь
Муравьиный царь
Сухбат Афлатуни
Редактор Качалкина
Когда люди любят друг друга, но не могут быть вместе, они меняются. Любовь срастается с болью, и обе пронизывают каждый день, каждую минуту их жизней. Лена и Лёня связаны навсегда, но у Лены – семья, а Лёня считается пропавшим без вести. Мир, в котором они живут, опрокинут в страшную сказку: в нем старики перестают умирать, и дети вынуждены сдавать их в страшные «геронтозории» среди лесов и болот… неужели пропавшему без вести Лёне удастся воскреснуть в непроходимых чащобах?
Роман-сказка, роман-притча, эта книга – и о любви, и о том, что есть вещи поважнее любви, но не возможные без нее.
С. Афлатуни
Муравьиный царь
© Афлатуни С., текст, 2016
© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2016
* * *
Сухбат Афлатуни переводится как «Диалоги Платона», а на самом деле под этим витиеватым псевдонимом живет и пишет Евгений Абдуллаев – один из самых интересных современных русскоязычных прозаиков Средней Азии (он живет в Узбекистане).
С Узбекистаном у большинства ассоциируются сегодня только негативные образы: гастарбайтеры, отрезающие головы детям; нищета и унижение человеческого достоинства; отсутствие прогресса и полное погружение в какой-то доисторический мрак по всем фронтам… а ведь именно Средняя Азия, живущая на могущественных руинах древних царств, это наша магическая окраина, на которой Россия контактирует с исламским миром, вызывающим сегодня столько споров и разногласий в связи с действиями ИГИЛ… Средняя Азия – наша сказка, это, наконец, родина старика Хоттабыча, заменившего советским детям диснеевского Аладдина.
«Муравьиный царь» создавался во многом в тени главного романа Сухбата Афлатуни – «Поклонение волхвов». И если «Поклонение волхвов» ветвистое эпическое полотно, завораживающее и пленяющее самим стилем письма, то «Муравьиный царь» – нервное, искреннее постмодернистское произведение о сложной судьбе женщины-архитектора, полюбившей одного, а вышедшей замуж за другого, и весь этот традиционный для русской литературы любовный треугольник разворачивается на фоне апокалипсического буйства фармацевтики: из-за приема лекарств старики перестали умирать, превращаясь в нечто пугающее и опасное…
В «Муравьином царе» причудливо соединились сказка и быль, пугающее и доброе, фантастика и реальность. А сам Афлатуни больше всего похож на бродячего философа, кочевника, в нем нет и капли того пафоса, что присущ многим авторам современной прозы. И мне верится, что из своих философских странствий этот автор принесет еще не один сюжет и благодаря ему Средняя Азия снова станет для русского читателя страной сказкок и приключений, куда хочется возвращаться и которую хочется любить.
Ваша Юлия Качалкина
Часть I
Теплое лето в Бултыхах
Во второй вечер возникли проблемы с брюхом. Всю косметичку вытрясла. Потом целую ночь таблетки из-под себя выгребала. А папа спал на раскладушке, как всегда.
Проснулись мы с мамой одновременно, ночь, сосны.
– Лен… Как твой живот? Что молчишь? А?
– Нормально, мам. Спи.
Проснулась, все еще дрыхнут. Умылась, губки нарисовала.
Вышла. Тишина…
Бултыхи!
Солнце только встало, ходит кошка. Кис-кис… Кис-кис, дура! Убежала.
Хорошо как, господи. Подошла к сосне, кору поковыряла.
Главное, все из головы выкинуть, что вертится. А то всю ночь снилось что-то про строительство, сметы, техобоснования, объясняла каким-то отморозкам, что колонны должны быть дорического ордера. Дорического, придурки! А они такие лыбятся и духи дарят.
Тихо, аж в ушах звенит. Спуститься к озеру.
Какая красотень, а?
Ничего здесь не изменилось. Деревья, цветочки. Кошка опять, сучка, прибежала. И запахи – травы, хвои. Посидела на скамейке.
На завтрак рисовая кашечка такая, йогурт. Девушка котлеты еще несет. Нет, мне не надо. Не надо, по-русски говорю же. А папа записался на фитобочку.
– Ты сам, – мама ему, – как фитобочка.
И хлоп его по животу.
Папочка напряженно улыбается. Так. Сказать маме, что не надо.
После завтрака ходили на бе?лок.
В тот раз тоже куча белок была. Эти уже их внуки.
– Правнуки… – Лёник достает орешки. – Или пра-пра-правнуки.
– Пра-пра-пра-пра… – дразню и трусь щекой о его куртку.
Заходим, папа телик смотрит. На экране мое лицо.
Мама на него набросилась – выключил.
Хотела ведь, чтобы номер без телика, как тогда. Специально в тот же самый номер договорилась. Ну как же! Мамочка чуть голодовку не объявила.
Телик у нее свет в окошке.
Вечером пошли на Тропу здоровья. Какой-то пипл в красных трусах жарит шашлык. И на меня то так, то сяк. Шашлык ему, что ли, скучно? Опять смотрит, цирк бесплатный нашел. Лет на десять меня младше, наверное. Или на двенадцать, карма моя. Ну вот что за глупость в голову лезет, а?
После обеда с Лёником ушли далеко в рощу, река узкая, быстрая, и ни одной рожи. Только пасечник по пути. А вот и наше место. Скидываю шмотки.
– Лень, надо было его, это, про мед спросить. Дураки.
– Я кончился, а ты жива… И ветер, жалуясь и плача…
Читает.
– Раскачивает лес и дачу…
В воду! Визжим, брызгаемся. Я без лифчика. Как тогда, в детстве.
Ленька отплыл, вылез. Отряхивается, изображая мокрого пса. А мне не холодно совсем. Совсем не холодно. Только левую грудь течением чуть относит, как поплавок. Волосы заколола, чтоб не лезли, а все равно лезут.
– Лёнька! Лёпсер-Попсер!
– А!
– Почитай еще!
– А?!
– Еще!
А облака такие, что дождь вот-вот. И как будто ничего не было. Никаких двадцати шести лет.
На ужин салат из свеклы. У всех красные губы.
– Семейка вампиров, – говорю.
– Вампиры чеснок не едят, – вставляет Лёник.
У самого, между прочим, самые красные.
После ужина гуляли к озеру.
Закат, краски – плакать хочется! А мамочка все время в своем репертуаре дергалась. То ей ветер, то сережку потеряла.
Папа с Ленькой вели себя отлично. Попытались о политике, но я на них посмотрела. Зато мамочка всё со своей сережкой.
– Мамочка, расслабься и посмотри, какой закат!
Обняла ее даже.
– Я тебе сто таких сережек куплю!
– Да уж, купишь! Особенно теперь…
– Ты чего-то сказала?
– Ой, да нет, ничего. Холодно чего-то! Замерзла я. Нога замерзла.
Ведь договаривались же! Весь закат своей сережкой обосрала.
В номере, конечно, нашла, целовала ее полчаса: «Ах ты моя сволочь!»
Гена работает на лодочной станции. Гена. Тот, красные шорты. Мистер Красные Шорты. Катамаранами заведует, лодками. Там же и спасатель.
– Спас кого-нибудь?
Улыбается. И не на пятнадцать лет младше, а всего на десять. Шашлыки на заказ делает. Сидим возле воды, пиво пьем. Налей мне еще. Бульк-бульк. Так себе пиво.
– Со знакомством, – говорит.
Ну, со знакомством, ладно. Хорошо вокруг, и вид ничего, сосны такие, только вот мошки. Еще одна! Кусаются, собаки.
– А я привык.
Ну да, ну да. Местный, кожа – не прокусишь. Смотрю на его кожу.
Нет, не из местных. Назвал город, откуда. Но я как раз комара хлопнула. Вот такого жирного!
Положил пустую бутылку, капнул пеной на штаны. Сегодня мы в синих трениках.
Итак, значит, Гена. Гена-Гена-Гена. Ген у нас еще не было.
И не будет.
* * *
Мама с утра сбегала уже в церковь. Вернулась довольная такая, светлая.
Вытащила целый пакет крыжовника.
Тысячу лет его не ела!
Вот так живешь, а столько всего вокруг не ешь.
Сунула мне его в ванную, мыть.
А тогда здесь церкви не было. И мама ни во что не верила. И папочка. Верил в науку, до сих пор «Наука и жизнь» на даче стопками валяется, в мышиных какашках.
А я верила в вампиру. Лёнька из лагеря привез целый сюжет. Укрывалась с головой. А вдруг вампира сможет сбросить с меня одеяло? А? Что тогда, а?
– Лен! Ты что там, уснула с крыжовником? Или мылом его моешь?
– Ага, шампунем!
Выключаю воду. Смотрю в зеркало. Два седых волоса. И вот еще один.
Генка очень смешной. При ходьбе щеки трясутся. Как хомяк, говорю ему.
Это плохо. Серьезно. Если какой-то мужик начинает мне казаться смешным – то это все, картина Репина, не успеваешь даже тормознуть. Машина вбок, в кювет и вверх колесами.
Сидим под старыми соснами. Он из Владикавказа.
Задираю голову. Как в кино, стволы вверх, как пальмы, перспективное сокращение.
– Да, красиво, – говорит. – По тебе муравей.
Еще говорит, что многие тут обратили на нас внимание. Что мы одеваемся странно.
Звонил Коваленок. Я же просила, что ж такое!
Не выдержала, сунула мобильный папе. Сама на балкончик. Сижу на плетенке, руки ледяные, папа мычит Коваленку фигню какую-то, бе-ме.
Врываюсь, выхватываю трубку. Говорю спокойным тоном:
– Я же просила, по всем вопросом – с Казимировым!
Через десять минут – Казимиров:
– Елена, все в порядке, я все объяснил.
Объяснил! Сказала, буду искать другого адвоката.
Не прямо, а дала понять.
Ну вот и башка. А-а… Куда опять анальгин? В косметичке целая аптека, а как нужно, так одни презервативы и уголь активированный.
Влезла под одеяло, задернула шторы. Голова! А!
Приперся Лёник, навонял кремом от загара.
Ходит по комнате… туда-сюда…
Наклонился:
– Отдыхаешь?
– Подыхаю.
– Помочь что-то?
– Чтоб скорее подохла?.. Ну, воды принеси.
Уходит в ванную.
Рожает он там эту воду, что ли?
– Голову приподними.
Приподнимаю. Не разлепляя век. Губы касаются теплого и мягкого. Мокрого.
Пью. Осторожно. Стараясь не касаться губами его кожи.
Принес мне воду в ладонях, как тогда.
Снился коттедж. Запретила думать о нем, теперь назло будет сниться.
Даже обставить не успела. И в спальне еще был ремонт, краску, как дура, закупила.
И хорошо, что продала. Все у меня еще будет. И коттедж еще лучше. И машина – не эта развалюха, одно название джип. И мужик нормальный, а не «живая мебель».
Вороны что-то раскаркались.
– Что это у тебя?
Лёник показывает на мое запястье.
– Укус.
– Какой?
– Комариный!
Розовый полумесяц. Впилась зубами, вчера. Когда сон вспомнила. Про коттеджик.
– Комар случайно не в красных шортах был?
– Нет, – говорю, – не в красных!
Отелло, на фиг.
Выплыли почти на середину озера. Генка на веслах.
– Вот здесь. Вода спокойная. Может, повезет.
Вода. Облака в воде. Ничего не вижу.
Нет, что-то темное. Это?
Гена смешно качает головой: не там, а во-он там.
– В позапрошлом меньше воды было. Каланча почти из воды торчала.
Я смотрю. Кажется, вижу.
– А если нырнуть, то хорошо видно.
– Я и так вижу.
Ничего не вижу. Только небо. Опускаюсь затылком на доску, солнце сквозь веки.
– А я нырну, – сообщает.
– Стой!
Быстро встаю и бросаюсь в воду.
Лед! Не брызги, а льдинки взлетают.
Ка-а-айф.
Но не ныряю. Зачем мне эта каланча?
Зачем мне затопленный город?
Зачем этот, со смешными щеками? Зачем?
– Гена!
Подгребает на лодке, помогает залезть.
Мокрые волосы ползут по мне как змеи.
Зубы тык-тык-тык. Гена мне бренди – «на», запасливый… Как белка… Б-б-белка… Чуть не откусываю горлышко, так стучат вот.
Отогреваюсь под его курткой.
– Возвращаемся. Может, сейчас там у тебя тонут, а мы тут…
Генка послушно гребет назад.
Кладет весла, поворачивается и целует.
Я не отталкиваю.
Скоро это все кончится.
Скоро у меня ничего не будет. Ничего, одна черная дверь.
«Папа, смотри, по мне мурашик ползет!»
Папа из-за газеты: «Убей».
Убивать совсем не хотелось. Хотелось, чтобы на него посмотрели. То есть на меня. Он же по мне ползет. Мамочка вылезла из воды: «Холодно сегодня». Вся в каплях и мурашках, и озером пахнет. Подошла к папе, легла рядом. Папа отложил газеты, подпер голову ладонью. Какой он красивый, когда газеты не читает.
«А где котлетки?» – спрашивает мамочка.
Папа мотнул головой в сторону кустов облепихи.
«Окунешься еще, Станиславыч?»
«Потом». – Папа погладил маму по мокрым волосам.
Когда мама их намочит, они вьются, как вьюнок.
Мама пошла в кусты доставать котлеты. Главное, чтобы не укололась!
На песке рядом след от ее купальника.
Я хотела рассказать ей про муравья, но он уполз. Всю себя обсмотрела, даже пятки проверила.
«Мам, котлету дай!» – спускается с валунов Лёник.
Ему одиннадцать лет, и он все время голодный. Вчера после зарядки он показывал бицепсы и заставлял трогать.
– Дожидаются вас!
Кто, где?
– В Храме воздуха. Приезжая.
Стою, в висках стучит. Что делать, поперлась в храм.
Здр-р-авствуйте, я ваша тетя! Сидит!
Сумку обхватила, волосы в пучок, очочки эти ее.
– Ты, Леночка, прости! Не выдержала я!
Ну, все. Раз «Леночка», значит, сейчас гадость какая-нибудь.
– Верни его мне!
Молчу. На пол смотрю.
– Ничего у меня, кроме него, нет! И если…
Срач в беседке. Вчера был пикник, бабы полночи песни орали, колбаса под скамейкой и огурец.
А наш монолог все длится.
Верни, верни. Его, его.
Слушаю, огурец пинаю.
Когда-то я это выдерживала. Почти полгода у нее жила, когда из дома ушла.
Нет, мы уже не плачем. И не рыдаем. Слезки вытерли, перешли к оплате за электричество.
– Ада Сергеевна!
Она не слышит, у нее еще трубы текут. Что? Да, о болезнях-то мы не поговорили! Теперь о болезнях. Болезни. Там, тут и поясничка на погодку.
– Ада Сергеевна! – Дубль два. – Вы сюда на поезде, прямо двое суток ехали?
– А на чем же еще, дорогой ты мой человек? Машин-то у меня нет… Где он?
– В город на экскурсию уехали.
Сочиняю по ходу пьесы. Что делать! Так я папу на тарелочке ей и принесла.
– А когда приедет? Я готова ждать.
– Не надо, Ада Сергеевна. Вы и так нарушили условие.
И огурец пинаю.
Достаю из сумки пачку. Хорошо, догадалась захватить. Зная целевую группу.
Ада Сергеевна смотрит красными глазами на пачку.
– Мне на него бы только издали… У меня такие предчувствия были. Даже не представляешь!
– Он вас постоянно вспоминает, – отсчитываю купюры. – Пятнадцать, шестнадцать…
– Мне еще билетик пришлось брать с переплатой, и лекарство ему привезла. И вот, подожди, шарфик. Потрогай, какой приятный. Нежный, правда?
Да, очень, очень приятный, повеситься на таком хорошо. Девятнадцать, двадцать.
– Прости меня, не усидела дома, – прячет деньги. – Представила, как он тут, без меня. Предчувствия. Две ночи не спала, такие сны были.
Обнимает меня. Целую желтую, невкусную щеку. Жалко ее. И папе тоже ее жалко. На жалости у них все и держится. На соплях вот этих, хоть бы высморкалась.
– А знаешь, Леночка, тебе бы хорошо заняться йогой. Она все снимает.
Отвела ее до автостанции. Лучше бы до вокзала, а то еще слезет и опять со своими предчувствиями припрется. Но до вокзала не могла, в четыре с Лёником идем в лес за грибами. А Гену пока отправила в отпуск. Отдохните, товарищ мачо.
После обеда мама с папой пошли на рынок. Мы с Лёником в карты, нам без взрослых карты не разрешали, но мы просто играли, если просто, то можно же. Потом Лёник сказал, что они ему надоели и предложил играть в новое:
«Давай, ты будешь мама, я – папа».
«Как в дочки-матери?»
«Нет, по-настоящему играть, как в жизни. Я – папа, муж, а ты – жена».
Я спросила, почему не наоборот, я ведь похожа на папу, и вообще папина дочка. А он на маму, и волосы мамины, вьются, когда водой намочит.
Лёник сказал, что важно не кто похож, а кто будущий мужчина: «Ты не можешь стать папой, даже когда совсем вырастешь. Даже если очень захочешь».
Странно, мне казалось, когда вырасту, я стану старой и скоро умру, как баба Лида. И все будут плакать, кушать рис с изюмом и песни вокруг меня петь. А про детей еще не думала, еще дети какие-то.
«Когда я вырасту, детей уже не будет, а будет… коммунизм… Ну, давай еще в карты!»
Лёник придвинулся и поцеловал меня в губы.
Его губы были мокрыми и кислыми.
«Мне посуду надо идти мыть», – сказала я, облизывая.
«Какую посуду?»
«Ну, посуду… Мы же играем, я – жена… Посуду!»
«Хорошо. Помой и приходи быстрей».
«А ты газетку почитай. На».
Лёник послушно развернул «газетку».
Я подошла к раковине:
«Ой, сколько посуды грязной!»
Взяла мыльницу и стала мыть ее, будто это тарелка. Губы немного болели. Неужели так папа с мамой целуются? Нет, конечно, по-другому! Они же не играют, у них все по-правдашнему, по-настоящему, как в кино.
«Помыла? Идем, доиграем».
Лёник смотрит, как я мыльницу мою. Набираю в нее водичку и выливаю. Набираю и выливаю. Уже почти чистая.
«Ленка! Лёнька!» – кричат с улицы папа с мамой.
Вернулись!
«Только ничего им не рассказывай! Клянись страшной клятвой!» – говорит Лёник шепотом.
Я быстро клянусь страшной клятвой и бегу во двор.
* * *
Писали, что я была любовницей мэра. Что спала с директором бассейна. Еще с кем-то. А в те полгода у меня вообще никого не было. Ноль. Одна работа.
Один раз Антон пришел, к Лешке. Он тогда еще приходил. Отец типа. Общаться. Брал его гулять, мороженое, пирожное, плюёженое. Или футбол сидели, по телику. И в тот раз пришел. Открыла, смотрю на него, а он куртку снимает. И запах такой знакомый, сигарет его, рубашки. На руки его смотрю и чувствую, что… А зачем мне это нужно? Ни ему, ни мне. Смотрю на его руки. Зачем? Зачем в одну и ту же разбитую чашку?
Сухбат Афлатуни
Редактор Качалкина
Когда люди любят друг друга, но не могут быть вместе, они меняются. Любовь срастается с болью, и обе пронизывают каждый день, каждую минуту их жизней. Лена и Лёня связаны навсегда, но у Лены – семья, а Лёня считается пропавшим без вести. Мир, в котором они живут, опрокинут в страшную сказку: в нем старики перестают умирать, и дети вынуждены сдавать их в страшные «геронтозории» среди лесов и болот… неужели пропавшему без вести Лёне удастся воскреснуть в непроходимых чащобах?
Роман-сказка, роман-притча, эта книга – и о любви, и о том, что есть вещи поважнее любви, но не возможные без нее.
С. Афлатуни
Муравьиный царь
© Афлатуни С., текст, 2016
© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2016
* * *
Сухбат Афлатуни переводится как «Диалоги Платона», а на самом деле под этим витиеватым псевдонимом живет и пишет Евгений Абдуллаев – один из самых интересных современных русскоязычных прозаиков Средней Азии (он живет в Узбекистане).
С Узбекистаном у большинства ассоциируются сегодня только негативные образы: гастарбайтеры, отрезающие головы детям; нищета и унижение человеческого достоинства; отсутствие прогресса и полное погружение в какой-то доисторический мрак по всем фронтам… а ведь именно Средняя Азия, живущая на могущественных руинах древних царств, это наша магическая окраина, на которой Россия контактирует с исламским миром, вызывающим сегодня столько споров и разногласий в связи с действиями ИГИЛ… Средняя Азия – наша сказка, это, наконец, родина старика Хоттабыча, заменившего советским детям диснеевского Аладдина.
«Муравьиный царь» создавался во многом в тени главного романа Сухбата Афлатуни – «Поклонение волхвов». И если «Поклонение волхвов» ветвистое эпическое полотно, завораживающее и пленяющее самим стилем письма, то «Муравьиный царь» – нервное, искреннее постмодернистское произведение о сложной судьбе женщины-архитектора, полюбившей одного, а вышедшей замуж за другого, и весь этот традиционный для русской литературы любовный треугольник разворачивается на фоне апокалипсического буйства фармацевтики: из-за приема лекарств старики перестали умирать, превращаясь в нечто пугающее и опасное…
В «Муравьином царе» причудливо соединились сказка и быль, пугающее и доброе, фантастика и реальность. А сам Афлатуни больше всего похож на бродячего философа, кочевника, в нем нет и капли того пафоса, что присущ многим авторам современной прозы. И мне верится, что из своих философских странствий этот автор принесет еще не один сюжет и благодаря ему Средняя Азия снова станет для русского читателя страной сказкок и приключений, куда хочется возвращаться и которую хочется любить.
Ваша Юлия Качалкина
Часть I
Теплое лето в Бултыхах
Во второй вечер возникли проблемы с брюхом. Всю косметичку вытрясла. Потом целую ночь таблетки из-под себя выгребала. А папа спал на раскладушке, как всегда.
Проснулись мы с мамой одновременно, ночь, сосны.
– Лен… Как твой живот? Что молчишь? А?
– Нормально, мам. Спи.
Проснулась, все еще дрыхнут. Умылась, губки нарисовала.
Вышла. Тишина…
Бултыхи!
Солнце только встало, ходит кошка. Кис-кис… Кис-кис, дура! Убежала.
Хорошо как, господи. Подошла к сосне, кору поковыряла.
Главное, все из головы выкинуть, что вертится. А то всю ночь снилось что-то про строительство, сметы, техобоснования, объясняла каким-то отморозкам, что колонны должны быть дорического ордера. Дорического, придурки! А они такие лыбятся и духи дарят.
Тихо, аж в ушах звенит. Спуститься к озеру.
Какая красотень, а?
Ничего здесь не изменилось. Деревья, цветочки. Кошка опять, сучка, прибежала. И запахи – травы, хвои. Посидела на скамейке.
На завтрак рисовая кашечка такая, йогурт. Девушка котлеты еще несет. Нет, мне не надо. Не надо, по-русски говорю же. А папа записался на фитобочку.
– Ты сам, – мама ему, – как фитобочка.
И хлоп его по животу.
Папочка напряженно улыбается. Так. Сказать маме, что не надо.
После завтрака ходили на бе?лок.
В тот раз тоже куча белок была. Эти уже их внуки.
– Правнуки… – Лёник достает орешки. – Или пра-пра-правнуки.
– Пра-пра-пра-пра… – дразню и трусь щекой о его куртку.
Заходим, папа телик смотрит. На экране мое лицо.
Мама на него набросилась – выключил.
Хотела ведь, чтобы номер без телика, как тогда. Специально в тот же самый номер договорилась. Ну как же! Мамочка чуть голодовку не объявила.
Телик у нее свет в окошке.
Вечером пошли на Тропу здоровья. Какой-то пипл в красных трусах жарит шашлык. И на меня то так, то сяк. Шашлык ему, что ли, скучно? Опять смотрит, цирк бесплатный нашел. Лет на десять меня младше, наверное. Или на двенадцать, карма моя. Ну вот что за глупость в голову лезет, а?
После обеда с Лёником ушли далеко в рощу, река узкая, быстрая, и ни одной рожи. Только пасечник по пути. А вот и наше место. Скидываю шмотки.
– Лень, надо было его, это, про мед спросить. Дураки.
– Я кончился, а ты жива… И ветер, жалуясь и плача…
Читает.
– Раскачивает лес и дачу…
В воду! Визжим, брызгаемся. Я без лифчика. Как тогда, в детстве.
Ленька отплыл, вылез. Отряхивается, изображая мокрого пса. А мне не холодно совсем. Совсем не холодно. Только левую грудь течением чуть относит, как поплавок. Волосы заколола, чтоб не лезли, а все равно лезут.
– Лёнька! Лёпсер-Попсер!
– А!
– Почитай еще!
– А?!
– Еще!
А облака такие, что дождь вот-вот. И как будто ничего не было. Никаких двадцати шести лет.
На ужин салат из свеклы. У всех красные губы.
– Семейка вампиров, – говорю.
– Вампиры чеснок не едят, – вставляет Лёник.
У самого, между прочим, самые красные.
После ужина гуляли к озеру.
Закат, краски – плакать хочется! А мамочка все время в своем репертуаре дергалась. То ей ветер, то сережку потеряла.
Папа с Ленькой вели себя отлично. Попытались о политике, но я на них посмотрела. Зато мамочка всё со своей сережкой.
– Мамочка, расслабься и посмотри, какой закат!
Обняла ее даже.
– Я тебе сто таких сережек куплю!
– Да уж, купишь! Особенно теперь…
– Ты чего-то сказала?
– Ой, да нет, ничего. Холодно чего-то! Замерзла я. Нога замерзла.
Ведь договаривались же! Весь закат своей сережкой обосрала.
В номере, конечно, нашла, целовала ее полчаса: «Ах ты моя сволочь!»
Гена работает на лодочной станции. Гена. Тот, красные шорты. Мистер Красные Шорты. Катамаранами заведует, лодками. Там же и спасатель.
– Спас кого-нибудь?
Улыбается. И не на пятнадцать лет младше, а всего на десять. Шашлыки на заказ делает. Сидим возле воды, пиво пьем. Налей мне еще. Бульк-бульк. Так себе пиво.
– Со знакомством, – говорит.
Ну, со знакомством, ладно. Хорошо вокруг, и вид ничего, сосны такие, только вот мошки. Еще одна! Кусаются, собаки.
– А я привык.
Ну да, ну да. Местный, кожа – не прокусишь. Смотрю на его кожу.
Нет, не из местных. Назвал город, откуда. Но я как раз комара хлопнула. Вот такого жирного!
Положил пустую бутылку, капнул пеной на штаны. Сегодня мы в синих трениках.
Итак, значит, Гена. Гена-Гена-Гена. Ген у нас еще не было.
И не будет.
* * *
Мама с утра сбегала уже в церковь. Вернулась довольная такая, светлая.
Вытащила целый пакет крыжовника.
Тысячу лет его не ела!
Вот так живешь, а столько всего вокруг не ешь.
Сунула мне его в ванную, мыть.
А тогда здесь церкви не было. И мама ни во что не верила. И папочка. Верил в науку, до сих пор «Наука и жизнь» на даче стопками валяется, в мышиных какашках.
А я верила в вампиру. Лёнька из лагеря привез целый сюжет. Укрывалась с головой. А вдруг вампира сможет сбросить с меня одеяло? А? Что тогда, а?
– Лен! Ты что там, уснула с крыжовником? Или мылом его моешь?
– Ага, шампунем!
Выключаю воду. Смотрю в зеркало. Два седых волоса. И вот еще один.
Генка очень смешной. При ходьбе щеки трясутся. Как хомяк, говорю ему.
Это плохо. Серьезно. Если какой-то мужик начинает мне казаться смешным – то это все, картина Репина, не успеваешь даже тормознуть. Машина вбок, в кювет и вверх колесами.
Сидим под старыми соснами. Он из Владикавказа.
Задираю голову. Как в кино, стволы вверх, как пальмы, перспективное сокращение.
– Да, красиво, – говорит. – По тебе муравей.
Еще говорит, что многие тут обратили на нас внимание. Что мы одеваемся странно.
Звонил Коваленок. Я же просила, что ж такое!
Не выдержала, сунула мобильный папе. Сама на балкончик. Сижу на плетенке, руки ледяные, папа мычит Коваленку фигню какую-то, бе-ме.
Врываюсь, выхватываю трубку. Говорю спокойным тоном:
– Я же просила, по всем вопросом – с Казимировым!
Через десять минут – Казимиров:
– Елена, все в порядке, я все объяснил.
Объяснил! Сказала, буду искать другого адвоката.
Не прямо, а дала понять.
Ну вот и башка. А-а… Куда опять анальгин? В косметичке целая аптека, а как нужно, так одни презервативы и уголь активированный.
Влезла под одеяло, задернула шторы. Голова! А!
Приперся Лёник, навонял кремом от загара.
Ходит по комнате… туда-сюда…
Наклонился:
– Отдыхаешь?
– Подыхаю.
– Помочь что-то?
– Чтоб скорее подохла?.. Ну, воды принеси.
Уходит в ванную.
Рожает он там эту воду, что ли?
– Голову приподними.
Приподнимаю. Не разлепляя век. Губы касаются теплого и мягкого. Мокрого.
Пью. Осторожно. Стараясь не касаться губами его кожи.
Принес мне воду в ладонях, как тогда.
Снился коттедж. Запретила думать о нем, теперь назло будет сниться.
Даже обставить не успела. И в спальне еще был ремонт, краску, как дура, закупила.
И хорошо, что продала. Все у меня еще будет. И коттедж еще лучше. И машина – не эта развалюха, одно название джип. И мужик нормальный, а не «живая мебель».
Вороны что-то раскаркались.
– Что это у тебя?
Лёник показывает на мое запястье.
– Укус.
– Какой?
– Комариный!
Розовый полумесяц. Впилась зубами, вчера. Когда сон вспомнила. Про коттеджик.
– Комар случайно не в красных шортах был?
– Нет, – говорю, – не в красных!
Отелло, на фиг.
Выплыли почти на середину озера. Генка на веслах.
– Вот здесь. Вода спокойная. Может, повезет.
Вода. Облака в воде. Ничего не вижу.
Нет, что-то темное. Это?
Гена смешно качает головой: не там, а во-он там.
– В позапрошлом меньше воды было. Каланча почти из воды торчала.
Я смотрю. Кажется, вижу.
– А если нырнуть, то хорошо видно.
– Я и так вижу.
Ничего не вижу. Только небо. Опускаюсь затылком на доску, солнце сквозь веки.
– А я нырну, – сообщает.
– Стой!
Быстро встаю и бросаюсь в воду.
Лед! Не брызги, а льдинки взлетают.
Ка-а-айф.
Но не ныряю. Зачем мне эта каланча?
Зачем мне затопленный город?
Зачем этот, со смешными щеками? Зачем?
– Гена!
Подгребает на лодке, помогает залезть.
Мокрые волосы ползут по мне как змеи.
Зубы тык-тык-тык. Гена мне бренди – «на», запасливый… Как белка… Б-б-белка… Чуть не откусываю горлышко, так стучат вот.
Отогреваюсь под его курткой.
– Возвращаемся. Может, сейчас там у тебя тонут, а мы тут…
Генка послушно гребет назад.
Кладет весла, поворачивается и целует.
Я не отталкиваю.
Скоро это все кончится.
Скоро у меня ничего не будет. Ничего, одна черная дверь.
«Папа, смотри, по мне мурашик ползет!»
Папа из-за газеты: «Убей».
Убивать совсем не хотелось. Хотелось, чтобы на него посмотрели. То есть на меня. Он же по мне ползет. Мамочка вылезла из воды: «Холодно сегодня». Вся в каплях и мурашках, и озером пахнет. Подошла к папе, легла рядом. Папа отложил газеты, подпер голову ладонью. Какой он красивый, когда газеты не читает.
«А где котлетки?» – спрашивает мамочка.
Папа мотнул головой в сторону кустов облепихи.
«Окунешься еще, Станиславыч?»
«Потом». – Папа погладил маму по мокрым волосам.
Когда мама их намочит, они вьются, как вьюнок.
Мама пошла в кусты доставать котлеты. Главное, чтобы не укололась!
На песке рядом след от ее купальника.
Я хотела рассказать ей про муравья, но он уполз. Всю себя обсмотрела, даже пятки проверила.
«Мам, котлету дай!» – спускается с валунов Лёник.
Ему одиннадцать лет, и он все время голодный. Вчера после зарядки он показывал бицепсы и заставлял трогать.
– Дожидаются вас!
Кто, где?
– В Храме воздуха. Приезжая.
Стою, в висках стучит. Что делать, поперлась в храм.
Здр-р-авствуйте, я ваша тетя! Сидит!
Сумку обхватила, волосы в пучок, очочки эти ее.
– Ты, Леночка, прости! Не выдержала я!
Ну, все. Раз «Леночка», значит, сейчас гадость какая-нибудь.
– Верни его мне!
Молчу. На пол смотрю.
– Ничего у меня, кроме него, нет! И если…
Срач в беседке. Вчера был пикник, бабы полночи песни орали, колбаса под скамейкой и огурец.
А наш монолог все длится.
Верни, верни. Его, его.
Слушаю, огурец пинаю.
Когда-то я это выдерживала. Почти полгода у нее жила, когда из дома ушла.
Нет, мы уже не плачем. И не рыдаем. Слезки вытерли, перешли к оплате за электричество.
– Ада Сергеевна!
Она не слышит, у нее еще трубы текут. Что? Да, о болезнях-то мы не поговорили! Теперь о болезнях. Болезни. Там, тут и поясничка на погодку.
– Ада Сергеевна! – Дубль два. – Вы сюда на поезде, прямо двое суток ехали?
– А на чем же еще, дорогой ты мой человек? Машин-то у меня нет… Где он?
– В город на экскурсию уехали.
Сочиняю по ходу пьесы. Что делать! Так я папу на тарелочке ей и принесла.
– А когда приедет? Я готова ждать.
– Не надо, Ада Сергеевна. Вы и так нарушили условие.
И огурец пинаю.
Достаю из сумки пачку. Хорошо, догадалась захватить. Зная целевую группу.
Ада Сергеевна смотрит красными глазами на пачку.
– Мне на него бы только издали… У меня такие предчувствия были. Даже не представляешь!
– Он вас постоянно вспоминает, – отсчитываю купюры. – Пятнадцать, шестнадцать…
– Мне еще билетик пришлось брать с переплатой, и лекарство ему привезла. И вот, подожди, шарфик. Потрогай, какой приятный. Нежный, правда?
Да, очень, очень приятный, повеситься на таком хорошо. Девятнадцать, двадцать.
– Прости меня, не усидела дома, – прячет деньги. – Представила, как он тут, без меня. Предчувствия. Две ночи не спала, такие сны были.
Обнимает меня. Целую желтую, невкусную щеку. Жалко ее. И папе тоже ее жалко. На жалости у них все и держится. На соплях вот этих, хоть бы высморкалась.
– А знаешь, Леночка, тебе бы хорошо заняться йогой. Она все снимает.
Отвела ее до автостанции. Лучше бы до вокзала, а то еще слезет и опять со своими предчувствиями припрется. Но до вокзала не могла, в четыре с Лёником идем в лес за грибами. А Гену пока отправила в отпуск. Отдохните, товарищ мачо.
После обеда мама с папой пошли на рынок. Мы с Лёником в карты, нам без взрослых карты не разрешали, но мы просто играли, если просто, то можно же. Потом Лёник сказал, что они ему надоели и предложил играть в новое:
«Давай, ты будешь мама, я – папа».
«Как в дочки-матери?»
«Нет, по-настоящему играть, как в жизни. Я – папа, муж, а ты – жена».
Я спросила, почему не наоборот, я ведь похожа на папу, и вообще папина дочка. А он на маму, и волосы мамины, вьются, когда водой намочит.
Лёник сказал, что важно не кто похож, а кто будущий мужчина: «Ты не можешь стать папой, даже когда совсем вырастешь. Даже если очень захочешь».
Странно, мне казалось, когда вырасту, я стану старой и скоро умру, как баба Лида. И все будут плакать, кушать рис с изюмом и песни вокруг меня петь. А про детей еще не думала, еще дети какие-то.
«Когда я вырасту, детей уже не будет, а будет… коммунизм… Ну, давай еще в карты!»
Лёник придвинулся и поцеловал меня в губы.
Его губы были мокрыми и кислыми.
«Мне посуду надо идти мыть», – сказала я, облизывая.
«Какую посуду?»
«Ну, посуду… Мы же играем, я – жена… Посуду!»
«Хорошо. Помой и приходи быстрей».
«А ты газетку почитай. На».
Лёник послушно развернул «газетку».
Я подошла к раковине:
«Ой, сколько посуды грязной!»
Взяла мыльницу и стала мыть ее, будто это тарелка. Губы немного болели. Неужели так папа с мамой целуются? Нет, конечно, по-другому! Они же не играют, у них все по-правдашнему, по-настоящему, как в кино.
«Помыла? Идем, доиграем».
Лёник смотрит, как я мыльницу мою. Набираю в нее водичку и выливаю. Набираю и выливаю. Уже почти чистая.
«Ленка! Лёнька!» – кричат с улицы папа с мамой.
Вернулись!
«Только ничего им не рассказывай! Клянись страшной клятвой!» – говорит Лёник шепотом.
Я быстро клянусь страшной клятвой и бегу во двор.
* * *
Писали, что я была любовницей мэра. Что спала с директором бассейна. Еще с кем-то. А в те полгода у меня вообще никого не было. Ноль. Одна работа.
Один раз Антон пришел, к Лешке. Он тогда еще приходил. Отец типа. Общаться. Брал его гулять, мороженое, пирожное, плюёженое. Или футбол сидели, по телику. И в тот раз пришел. Открыла, смотрю на него, а он куртку снимает. И запах такой знакомый, сигарет его, рубашки. На руки его смотрю и чувствую, что… А зачем мне это нужно? Ни ему, ни мне. Смотрю на его руки. Зачем? Зачем в одну и ту же разбитую чашку?