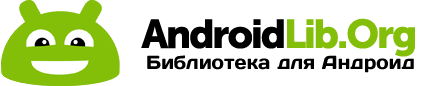AndroidLib » Читалка
Не буди во мне кактус
Не буди во мне кактус
Марина Михайловна Семенова
Так бывает – все в человеке замечательно: и лицо, и мысли, и намерения.. А половинка все не находится и не находится. Так бывает: все в человеке хорошо, а жизнь все не складывается и не складывается. А ты все надеешься, а ты все ждешь её – такую светлую, чистую, неземную, единственную и на всю жизнь… Вы поняли о ком я? Да-да, конечно же, о Любви… Годы проходят, тоска только усиливается, и в один из дней ты говоришь себе: «А может быть, ну её – эту Любовь?! К черту, все эти страсти-мордасти!» И, ты трезвеешь мыслями и сердцем – и находишь что-то такое, не менее важное, что непременно сделает тебя счастливой. По-настоящему счастливой…
Марина Семенова
Не буди во мне кактус
Очень часто мы твердим: «Так сложилась судьба», «Она пошла наперекор судьбе», «Судьба была к нему благосклонна»… Говорим так, словно Судьба какое-то живое существо, которое ест, спит и дышит нам в затылок. Может быть она и вправду – дышит? Ходит по земле, вмешивается в наши жизни, беззвучно нашептывая нам в ухо наши же мысли, пишет сценарии наших отношений. Сейчас, вспоминая всю свою жизнь, я не могу со всей определенностью сказать: «Да, она живая!» или утверждать обратное. Я не знаю, что я тогда делала – творила свою Судьбу сама, шла ей наперекор или плыла по течению? Честное слово, не знаю…
А давайте, я вам сейчас все, все, все расскажу, и вы поможете мне понять – могла я тогда поступить иначе или нет? И начать, я думаю – с самого детского моего детства.
Я росла недоласканным ребенком. Не недолюбленным, а именно – недоласканным, недотисканным, недообнятым… Отца я, практически, не помню. Он ушел, когда мне не было и пяти. А мама? А мама, и так, была не слишком сентиментальной, а после развода с мужем и вовсе закрылась, забралась в свою эмоциональную ракушку. Она много работала, чтобы мы ни в чем не нуждались. Мы – это я и моя старшая сестра, в отношениях с которой у меня тоже особенной родственной нежности не наблюдалось. Никогда.
Мы назывались семьей, но жили своей, отдельной жизнью, особо не пересекаясь во времени и пространстве. У каждого из нас была своя территория в виде отдельной комнаты, в которую никто без особой надобности не входил. Завтракали, обедали и ужинали мы в разное время и телевизор вместе не смотрели.
Все свое дошкольное детство я проболталась с ключом на шее на просторах нашего огромного двора. Двор был, и вправду, очень большим, но безинтересным. Из всех коммунальных достопримечательностей – заасфальтированная волейбольная площадка с двумя щитами на ржавых, металлических опорах и песочница, в которую раз в год кем-то невидимым насыпался песок и за неделю, опять же – кем-то невидимым, благополучно растаскивался. Во множестве огородов и палисадников, разбитых под самыми окнами, исступленно культивируемых и ревностно охраняемых понаехавшими «горожанами», продолжающими ностальгировать по сельской жизни – мы прятались, воровали смородину и малину, зарывали секретки и одаривали друг друга первыми неумелыми поцелуями. Нас манили подвалы и чердаки, куда мы немедленно просачивались, стоило какому-нибудь разгильдяю оставить их незапертыми. В подвалах и на чердаках было темно, пыльно и страшно, и не так, чтобы уж очень интересно, но темнота, строжайший родительский запрет и наше буйные детские фантазии – превращали лазанье по ним в настоящее приключение.
А еще мы ходили друг к другу в гости. Вернее, все ходили ко мне, пока мама была на работе, а сестра в школе. Немногие из нашей дворовой компании могли похвастаться своей отдельной комнатой, в которой можно было воплощать любые детские желания: мерить мамины платья и туфли, печатать на оставшейся от отца печатной машинке, играть в парикмахера, доктора и даже рисовать на стенах. Да, мне было дозволено все, в том числе, и разрисовывать цветными мелками стены комнаты. Когда же все вышеперечисленное нам поднадоело, я придумала играть в библиотеку, раздав детворе не только все свои детские книжки, но и половину взрослых, которые по тем временам собирались с невероятным трудом и хранились с особым подобострастием. Пошел «на ура» самодельный сестринский песенник, в который она вписывала слова любимых песен и вклеивала вырезки из журналов «Огонек», «Советский экран» и «Кобета и жыче», и за который я тогда отгребла по полной от разъяренный старшенькой.
Последней каплей, переполнившей чашу маминого терпения, стал «ресторан», который я решила открыть прямо у себя дома. Все имеющиеся в квартире табуретки были застелены новыми белюсенькими вафельными полотенцами, сверху расставлена посуда, вынутая из серванта, а на дверце шкафа мелом нацарапано меню, в соответствии с которым посетителям скоромилось все содержимое нашего холодильника. В свое оправдание я пыталась предъявить маме яркие фантики от конфет, которыми многочисленные гости расплатились за обед, но мамин гнев это нисколько не смягчило.
С той поры меня поручили соседке, ей же был вверен ключ от нашей квартиры, куда «злобная» соседка впускала только меня одну, без друзей и подруг. В отместку соседке, маме, сестре и всем, кто посягнул на мою свободу, я в мгновение ока придумала новый план, решив отправиться с друзьями в поход. Нет, не в горы и не в лес. Маршрут похода пролегал через магазин «Детский мир», вернее, не «через», а «по», то есть – по всем его закоулкам, отделам и секциям трех этажей. Неизвестный советским ушам термин шопинг сказочно манил наше неокрепшее покупательское либидо. А чтобы «поход» получился взаправдашним, мною была безжалостно расколочена сестринская свинья-копилка с ярко-красным бантом на розовой поросячьей попе.
Отправиться в поход я сагитировала человек пятнадцать. Ребятня собралась разношерстная – в возрастном диапазоне от пяти до десяти лет. До пункта назначения шли долго, дружно и весело, но, по прибытии были отловлены администрацией магазина, когда двое из моих «отрядных» подняли дикий ор, не поделив резинового лягушонка, и в борьбе за обладание надувной игрушкой растянули ему шею до размеров жирафьей. Я, как истинный вожак, попыталась уладить конфликт, щедро высыпав на прилавок копилочные пятачки и гривенники. Самые младшие из нас разревелись, заподозрив, что – раз деньги за горе-лягушку отсыпаны, то им уже не видать обещанного мною мороженного. Не долго думая, к ним присоединилась и вся остальная гурьба, подпавшая под эмоциональный выброс первых. Душераздирающий детский плач быстро собрал толпу сочувствующих, которая требовала вызвать участкового. Участковый был вызван администрацией незамедлительно, чем еще больше усилил децибелы коллективного горя. Многих из нас в те годы пугали дядей милиционером.
Администрация требовала устроить зачинщику (то есть – мне) допрос с пристрастием. Но, допроса с пристрастием не получилось – за меня вступилась все та же сочувствующая толпа, стоило мне громко и решительно заявить, что это всё – мои братья и сестры, которые пришли выбирать маме подарок, потому что наша мама – героиня, и завтра ей будут торжественно вручать орден за многодетность. Самое странное, что мне поверили, и наше славное «семейство» было отпущено под честное слово «вернуться домой, никуда не сворачивая».
Когда мы появились во дворе – уже вечерело. Встревоженное родительское племя метнулось нам навстречу и быстро рассыпалось на пазлы, разобрав наш, уже не такой дружный, строй на составляющие. Кого-то осыпали поцелуями, на кого-то орали, кому-то достались подзатыльники и шлепки по заднице, самые интеллигентные из родителей ограничились затяжной нравоучительной речью. Меня не били, не целовали и не воспитывали. Молча взяли за руку и увели домой.
От мамы мне не влетело, зато – досталось от сестры. Мне было щедро отсыпано и шлепков, и подзатыльников, и ора. За разбитую копилку и посягательство на святое – «заветную» девичью мечту – югославские сапоги.
Мне совсем не хотелось расстраивать ни маму, ни сестру, но моя гиперактивная натура жаждала ежеминутной подпитки. В моем дне, похожем на калейдоскоп, постоянно должно было что-то меняться, случаться, происходить. Я, словно энергетическая воронка, втягивала в себя людей и события, увлекаясь каждым новым человеком, выгорая дотла, пронзительно и ярко переживая каждый день и каждый миг своей жизни.
Представляю сколько претензий пришлось выслушать моей маме от разъяренных родителей после того злополучного «игрушечного похода», чтобы она смогла принять несвойственное ей по жестокости решение – запирать меня дома. Сестра злорадствовала, а я гордо и «красноречиво» торчала у дверей, провожая маму на работу, чем несказанно рвала ей сердце.
Да, мама не была ласковой. Не умея проявлять любовь в эмоциях, она любила нас по-своему, совершенно не умея наказывать, и очень страдала, когда нам было плохо. А еще – она не могла объяснять нам свои и чужие поступки, и, вообще – этот мир. Такой сложный и такой противоречивый. Когда сестра обижала меня, я неслась к матери, зареванная и возмущенная, чтобы выплеснуть на неё свое маленькое детское горе. Мама выслушивала молча, вроде как одобряла, и тем самым рождала во мне чувство собственной правоты. Когда же к ней прибегала сестра – а ей тоже было с чем прибегать (вспомните, хотя бы, тот случай с копилкой) – мама, точно так же, безмолвно и понимающе кивала, сея и взращивая в сестре непоколебимую уверенность в том, что права именно она. И только она. Такая мамина тактика с годами привела к извечному противостоянию двух сестер и вылилась в пожизненное неприятие «заведомой неправоты» каждой из нас с затяжными многолетними молчаниями. Вот и сейчас, мы не разговариваем с сестрой больше двух лет.
Для себя я поняла главное – не достаточно в течении дня ставить перед детьми тарелку супа или каши, и ежевечерне раскладывать их по кроваткам, одевая в свои пижамки. Воспитание любви между детьми – это, прежде всего, скрупулезный и терпеливый разбор любой, даже самой маленькой, конфликтной ситуации, и подробное объяснение того – где, кто и в чем был не прав, с неизменным прочтением в конце беседы одной и той же мантры: «Вы – родные друг другу люди. Самые родные и самые близкие. Вы должны научиться любить, прощать и помогать друг другу». И слово «должны» не режет слух, при условии, что «любить» становится определяющим понятием. В нашей семье этого не случилось, потому что главным всегда было – «должны помогать». Что же в этом плохого? – спросите вы. Вы спросите, а я постараюсь объяснить.
В семье я – младшая, а младшим принято помогать. Поначалу им помогают держать ложку, одеваться и шнуровать ботиночки, чуть позже – делать уроки, жарить картошку и варить пельмени. Потом уже, по необходимости – торопятся подставить плечо, выручают деньгами, поддерживают, потому что любят, переживают и очень хотят, чтобы эти младшие были счастливы. А младшие, в свою очередь, вырастая, окрепнув и повзрослев, тоже в ответку – и плечо, и поддержку, и руку помощи, потому как – тоже любят и переживают, и очень хотят, чтобы и старшие были счастливы. Но, если забота о тебе продиктована не любовью, а одной только родственной обязанностью, то – это, поверьте мне, неподъемная ноша, отягощенная чувством вины. И тащишь ты по жизни этот груз вины до тех пор, пока не попадется на твоем пути умная книжка, статья или толковый психолог. И освободишься ты от всего этого понемногу и с большим трудом, и вздохнешь свободно. А если не попадутся, то так и умрешь – виноватой и неблагодарной. И ляжет на тебя эта вина надгробной плитой на веки вечные.
А сейчас, давайте вернемся к тому трагическому месту моего повествования, где меня, словно ветер в бутылку, заперли одну в пустой квартире. В пустой, не в смысле мебели, а в смысле общения. Это сейчас – можно позвонить кому угодно, выйти в скайп и войти в интернет, а тогда… А тогда, это было равносильно смерти. Во всяком случае для меня.
Спасали две вещи: лето и первый этаж, достаточно низкий для того, чтобы я могла разговаривать с друзьями через окно. Через него же я поила жаждущих водой, кормила голодных бутербродами и показывала кукольные представления всем скучающим.
Когда все сюжеты для кукольных спектаклей в моей голове иссякли, руки затекли, а мне осточертело, сидя на корточках, оставаться невидимкой, мною придумалось нечто совершенно неисследованное, а именно – открытие домашней ветлечебницы. Через окно на веревке была спущена табуретка, на которую становился каждый, пришедший к «доктору» на прием. В течение двух часов все близлежащие подвалы, чердаки и кусты были исследованы на наличие беспризорных кошек и собак. Позже ко мне стали поступать и другие, уже домашние, «животные» – попугаи, канарейки, аквариумные рыбки и один карась, только-только купленный в гастрономе. Когда закончились и они, в ход пошли кузнечики, бабочки, тараканы и даже две большие зеленые мухи. Я осматривала всех, ставила диагноз и госпитализировала. Так что к приходу мамы в квартире мяукало, гавкало, жужжало и гадило одиннадцать кошек, четыре котенка, восемь собак, две банки с рыбками, и десять спичечных коробков с кузнечиками, тараканами и двумя зелеными мухами. Ругать меня мама не стала, лишь молча выпустила всю живность на волю и тщательно вымыла полы, с хлоркой. Больше меня в квартире не запирали.
С началом сентября всем стало полегче – я пошла в школу. Училась я хорошо и всячески активничала в общественной жизни: собирала макулатуру, рисовала стенгазеты, возглавляла тимуровское движение и принимала участие в подготовке КВН-ов, школьных утренников и вечеров.
Меня было так много, что хватало на всё и на всех, но, мне хотелось еще больше – еще больше новых друзей и интересных событий. А, приблизительно с пятого класса я начала влюбляться. Первый раз это случилось с одноклассником Сережей, который был приглашен на мой день рождения, – и пришел, зажав под мышкой огромную коробку конфет, а в протянутой руке – скромный букет неярких нарциссов. Как выяснилось позже, в гости его собирала мама, которая очень хорошо отнеслась к нашей дружбе. Сережа был ленивым троечником, а я – активной отличницей, и этот мезальянс пришелся ей по душе, но никак не оправдал ее ожиданий. Сережа не стал лучше учиться и, вообще, очень скоро меня разочаровал, хотя и остался мне другом на долгие годы. Я, вообще, всегда была убеждена, что друзей должно быть много. Как можно больше.
Перевлюблявшись во всех мальчишек своего класса, кроме троих, самых неликвидных – коротконогого и толстопопого Гиржмана (убейте, не помню как его звали), пришлепнутого Александра Романенко и красавца Кости Агаркова, влюбленного в самого себя по самое не хочу.
Моя студенческая жизнь тоже была полна событиями. Мы ездили на картошку, красили качели в подшефном пионерлагере, а летом работали там же пионервожатыми. И снова вокруг меня все бурлило, кипело и фонтанировало. Идеи выскакивали из моей головы с необычайной легкостью, заражая всех и будоража.
Несмотря на всю свою недоласканность, главной моей потребностью было не получать, а отдавать эту самую энергию любви. Откуда она бралась неведомо, но, ее во мне уже накопилось столько, что, порой, она начинала вскипать в моей крови, отзываясь во всем теле ноющей болью. Нерастраченная и невостребованная любовь распинала меня изнутри, натягивая кожу и угрожая взорваться, разнести в клочья душу и тело. Я так ощущала. И с этим надо было что-то делать.
В то время я напоминала щенка алабая, большого, жизнерадостного, любвиобильного, который носится от человека к человеку, тычется носом в ладонь каждому, кто поманит, подпрыгивает и старается лизнуть лицо, повизгивая от переполняющих его чувств. Ошалевший от любви, глупый, искренний, преданный собачий дурак.
Я всячески участвовала в судьбах своих многочисленных друзей и подруг, постоянно кого-то выручала, спасала, выслушивала и мирила поссорившихся. Мне до всего было дело, потому что – очень нравилось быть нужной и востребованной, но еще сильнее мне хотелось быть любимой. Стать единственной для кого-то одного. Но, этого почему-то не происходило. И больше всего на свете мне хотелось знать – почему?
Один мой друг-фотограф, с которым мы однажды провели целый день, снимая цветущие в парке деревья, а потом, устав и изголодавшись, «упали» в одной из кафешек, заказав по двойной порции дерунов и по пятьдесят водки, захмелел и признался:
– Опасная ты, Дашка, ой – опасная…
– В каком смысле? – уточнила я, слегка опешив, и удивленно помахивая вилкой.
– Ну… с тобой, это, как на ящике с динамитом сидеть, не знаешь, когда рванет!
Он жестом подозвал официанта и попросил «повторить», а когда тот принес нам еще две полные стопки, быстро влил одну из них в себя и добавил, вальяжно откинувшись на спинку стула и подняв вверх указательный палец:
– Но, существует один очень хороший способ себя обезопасить.
Я тоже выпила свои пятьдесят грамм и спросила, громко икнув:
– Какой?
– Дать рвануть!
После этих слов горе-фотограф вдруг наклонился ко мне и, не дав опомниться, впился изгвазданными жиром губами в мои губы. Я попыталась вырваться, но, он еще жестче прижал меня к себе. Это был первый поцелуй в моей жизни. И первое разочарование. Мне не понравилось. Совсем. Казалось, будто огромная пьяная пиявка вцепилась в мои губы и потихоньку всасывает меня внутрь. Я уже ощутила, как мокро, темно и душно там, у нее там – в пиявочной середине. Поэтому, стоило моему партнеру чуть ослабить хватку, как я отпрянула от его лица и, размахнувшись, влепила предприимчивому другу яростную пощечину.
– Дашка, ты что – совсем охренела?!
Он тер пылающую щеку, обиженно поджав блестящие губы.
– А какого черта ты лезешь ко мне со своим… этим…
Я не хотела называть это поцелуем. Мне не с чем было сравнивать, но я почему-то была уверена, что настоящий поцелуй выглядит совсем иначе. И, как оказалось в последствии, не ошиблась.
– Дура, я же по-дружески, – попытался оправдаться фотограф.
– «По-дружески» хлопают по плечу, а целуются – по любви, – буркнула я, потянувшись за сумкой – у меня появилось непреодолимое желание уйти.
– Целуются по-всякому. Маленькая ты еще, не понимаешь…
– А ты, выходит, большой? – огрызнулась я и оглянулась в поисках официанта, не хотела, чтобы он за меня платил.
– Выходит – так…
Мой собеседник успокоился, достал сигарету, закурил.
– Значит, по-твоему, взрослый мир – это, когда вот так – с кем угодно, без чувств…
– Ну почему же «без чувств»? – ухмыльнулся он. – Возбуждение – тоже чувство.
– Которым можно оправдать все? Даже изнасилование?! – спросила я достаточно зло.
– Вот только утрировать не надо.
Мы помолчали. Он, в общем-то, был неплохим парнем, но и не настолько хорошим, чтобы зацепиться в моем сердце. Вот видите, я даже имени его вспомнить не могу. Фотограф и фотограф.
– Знаешь, вот это твое «ни поцелуя без любви» как-то очень уж старомодно выглядит…, – сказал он на прощанье так, словно пожалел меня. – Сколько тебе лет, Дашка?
– Сколько ни есть – все мои!
«Все мои» приближались к двадцати. Тоска по любви набрала критической массы. Недообнятое и недоласканное тело изнывало от желания выплескиваться и поглощать, соприкоснувшись душами. А «душа» для соприкосновения все не находилась и не находилась. Та единственная, твоя. И это было так странно и так мучительно – оставаться среди людей и постоянно ощущать свое одиночество, словно замерзать на пляже в самую жару. Нет, у меня, конечно, случались взаимные симпатии, но как-то все обрывалось еще не начавшись. То, мой избранник уезжал в другой город учиться, то уходил в армию, то просто исчезал без объяснения причин. А я страдала. Боже мой, как же невозможно я страдала, каждый раз свято веря, что именно он и был моей судьбой, и что никогда и никого я уже так не полюблю, так сильно и так самозабвенно.
Марина Михайловна Семенова
Так бывает – все в человеке замечательно: и лицо, и мысли, и намерения.. А половинка все не находится и не находится. Так бывает: все в человеке хорошо, а жизнь все не складывается и не складывается. А ты все надеешься, а ты все ждешь её – такую светлую, чистую, неземную, единственную и на всю жизнь… Вы поняли о ком я? Да-да, конечно же, о Любви… Годы проходят, тоска только усиливается, и в один из дней ты говоришь себе: «А может быть, ну её – эту Любовь?! К черту, все эти страсти-мордасти!» И, ты трезвеешь мыслями и сердцем – и находишь что-то такое, не менее важное, что непременно сделает тебя счастливой. По-настоящему счастливой…
Марина Семенова
Не буди во мне кактус
Очень часто мы твердим: «Так сложилась судьба», «Она пошла наперекор судьбе», «Судьба была к нему благосклонна»… Говорим так, словно Судьба какое-то живое существо, которое ест, спит и дышит нам в затылок. Может быть она и вправду – дышит? Ходит по земле, вмешивается в наши жизни, беззвучно нашептывая нам в ухо наши же мысли, пишет сценарии наших отношений. Сейчас, вспоминая всю свою жизнь, я не могу со всей определенностью сказать: «Да, она живая!» или утверждать обратное. Я не знаю, что я тогда делала – творила свою Судьбу сама, шла ей наперекор или плыла по течению? Честное слово, не знаю…
А давайте, я вам сейчас все, все, все расскажу, и вы поможете мне понять – могла я тогда поступить иначе или нет? И начать, я думаю – с самого детского моего детства.
Я росла недоласканным ребенком. Не недолюбленным, а именно – недоласканным, недотисканным, недообнятым… Отца я, практически, не помню. Он ушел, когда мне не было и пяти. А мама? А мама, и так, была не слишком сентиментальной, а после развода с мужем и вовсе закрылась, забралась в свою эмоциональную ракушку. Она много работала, чтобы мы ни в чем не нуждались. Мы – это я и моя старшая сестра, в отношениях с которой у меня тоже особенной родственной нежности не наблюдалось. Никогда.
Мы назывались семьей, но жили своей, отдельной жизнью, особо не пересекаясь во времени и пространстве. У каждого из нас была своя территория в виде отдельной комнаты, в которую никто без особой надобности не входил. Завтракали, обедали и ужинали мы в разное время и телевизор вместе не смотрели.
Все свое дошкольное детство я проболталась с ключом на шее на просторах нашего огромного двора. Двор был, и вправду, очень большим, но безинтересным. Из всех коммунальных достопримечательностей – заасфальтированная волейбольная площадка с двумя щитами на ржавых, металлических опорах и песочница, в которую раз в год кем-то невидимым насыпался песок и за неделю, опять же – кем-то невидимым, благополучно растаскивался. Во множестве огородов и палисадников, разбитых под самыми окнами, исступленно культивируемых и ревностно охраняемых понаехавшими «горожанами», продолжающими ностальгировать по сельской жизни – мы прятались, воровали смородину и малину, зарывали секретки и одаривали друг друга первыми неумелыми поцелуями. Нас манили подвалы и чердаки, куда мы немедленно просачивались, стоило какому-нибудь разгильдяю оставить их незапертыми. В подвалах и на чердаках было темно, пыльно и страшно, и не так, чтобы уж очень интересно, но темнота, строжайший родительский запрет и наше буйные детские фантазии – превращали лазанье по ним в настоящее приключение.
А еще мы ходили друг к другу в гости. Вернее, все ходили ко мне, пока мама была на работе, а сестра в школе. Немногие из нашей дворовой компании могли похвастаться своей отдельной комнатой, в которой можно было воплощать любые детские желания: мерить мамины платья и туфли, печатать на оставшейся от отца печатной машинке, играть в парикмахера, доктора и даже рисовать на стенах. Да, мне было дозволено все, в том числе, и разрисовывать цветными мелками стены комнаты. Когда же все вышеперечисленное нам поднадоело, я придумала играть в библиотеку, раздав детворе не только все свои детские книжки, но и половину взрослых, которые по тем временам собирались с невероятным трудом и хранились с особым подобострастием. Пошел «на ура» самодельный сестринский песенник, в который она вписывала слова любимых песен и вклеивала вырезки из журналов «Огонек», «Советский экран» и «Кобета и жыче», и за который я тогда отгребла по полной от разъяренный старшенькой.
Последней каплей, переполнившей чашу маминого терпения, стал «ресторан», который я решила открыть прямо у себя дома. Все имеющиеся в квартире табуретки были застелены новыми белюсенькими вафельными полотенцами, сверху расставлена посуда, вынутая из серванта, а на дверце шкафа мелом нацарапано меню, в соответствии с которым посетителям скоромилось все содержимое нашего холодильника. В свое оправдание я пыталась предъявить маме яркие фантики от конфет, которыми многочисленные гости расплатились за обед, но мамин гнев это нисколько не смягчило.
С той поры меня поручили соседке, ей же был вверен ключ от нашей квартиры, куда «злобная» соседка впускала только меня одну, без друзей и подруг. В отместку соседке, маме, сестре и всем, кто посягнул на мою свободу, я в мгновение ока придумала новый план, решив отправиться с друзьями в поход. Нет, не в горы и не в лес. Маршрут похода пролегал через магазин «Детский мир», вернее, не «через», а «по», то есть – по всем его закоулкам, отделам и секциям трех этажей. Неизвестный советским ушам термин шопинг сказочно манил наше неокрепшее покупательское либидо. А чтобы «поход» получился взаправдашним, мною была безжалостно расколочена сестринская свинья-копилка с ярко-красным бантом на розовой поросячьей попе.
Отправиться в поход я сагитировала человек пятнадцать. Ребятня собралась разношерстная – в возрастном диапазоне от пяти до десяти лет. До пункта назначения шли долго, дружно и весело, но, по прибытии были отловлены администрацией магазина, когда двое из моих «отрядных» подняли дикий ор, не поделив резинового лягушонка, и в борьбе за обладание надувной игрушкой растянули ему шею до размеров жирафьей. Я, как истинный вожак, попыталась уладить конфликт, щедро высыпав на прилавок копилочные пятачки и гривенники. Самые младшие из нас разревелись, заподозрив, что – раз деньги за горе-лягушку отсыпаны, то им уже не видать обещанного мною мороженного. Не долго думая, к ним присоединилась и вся остальная гурьба, подпавшая под эмоциональный выброс первых. Душераздирающий детский плач быстро собрал толпу сочувствующих, которая требовала вызвать участкового. Участковый был вызван администрацией незамедлительно, чем еще больше усилил децибелы коллективного горя. Многих из нас в те годы пугали дядей милиционером.
Администрация требовала устроить зачинщику (то есть – мне) допрос с пристрастием. Но, допроса с пристрастием не получилось – за меня вступилась все та же сочувствующая толпа, стоило мне громко и решительно заявить, что это всё – мои братья и сестры, которые пришли выбирать маме подарок, потому что наша мама – героиня, и завтра ей будут торжественно вручать орден за многодетность. Самое странное, что мне поверили, и наше славное «семейство» было отпущено под честное слово «вернуться домой, никуда не сворачивая».
Когда мы появились во дворе – уже вечерело. Встревоженное родительское племя метнулось нам навстречу и быстро рассыпалось на пазлы, разобрав наш, уже не такой дружный, строй на составляющие. Кого-то осыпали поцелуями, на кого-то орали, кому-то достались подзатыльники и шлепки по заднице, самые интеллигентные из родителей ограничились затяжной нравоучительной речью. Меня не били, не целовали и не воспитывали. Молча взяли за руку и увели домой.
От мамы мне не влетело, зато – досталось от сестры. Мне было щедро отсыпано и шлепков, и подзатыльников, и ора. За разбитую копилку и посягательство на святое – «заветную» девичью мечту – югославские сапоги.
Мне совсем не хотелось расстраивать ни маму, ни сестру, но моя гиперактивная натура жаждала ежеминутной подпитки. В моем дне, похожем на калейдоскоп, постоянно должно было что-то меняться, случаться, происходить. Я, словно энергетическая воронка, втягивала в себя людей и события, увлекаясь каждым новым человеком, выгорая дотла, пронзительно и ярко переживая каждый день и каждый миг своей жизни.
Представляю сколько претензий пришлось выслушать моей маме от разъяренных родителей после того злополучного «игрушечного похода», чтобы она смогла принять несвойственное ей по жестокости решение – запирать меня дома. Сестра злорадствовала, а я гордо и «красноречиво» торчала у дверей, провожая маму на работу, чем несказанно рвала ей сердце.
Да, мама не была ласковой. Не умея проявлять любовь в эмоциях, она любила нас по-своему, совершенно не умея наказывать, и очень страдала, когда нам было плохо. А еще – она не могла объяснять нам свои и чужие поступки, и, вообще – этот мир. Такой сложный и такой противоречивый. Когда сестра обижала меня, я неслась к матери, зареванная и возмущенная, чтобы выплеснуть на неё свое маленькое детское горе. Мама выслушивала молча, вроде как одобряла, и тем самым рождала во мне чувство собственной правоты. Когда же к ней прибегала сестра – а ей тоже было с чем прибегать (вспомните, хотя бы, тот случай с копилкой) – мама, точно так же, безмолвно и понимающе кивала, сея и взращивая в сестре непоколебимую уверенность в том, что права именно она. И только она. Такая мамина тактика с годами привела к извечному противостоянию двух сестер и вылилась в пожизненное неприятие «заведомой неправоты» каждой из нас с затяжными многолетними молчаниями. Вот и сейчас, мы не разговариваем с сестрой больше двух лет.
Для себя я поняла главное – не достаточно в течении дня ставить перед детьми тарелку супа или каши, и ежевечерне раскладывать их по кроваткам, одевая в свои пижамки. Воспитание любви между детьми – это, прежде всего, скрупулезный и терпеливый разбор любой, даже самой маленькой, конфликтной ситуации, и подробное объяснение того – где, кто и в чем был не прав, с неизменным прочтением в конце беседы одной и той же мантры: «Вы – родные друг другу люди. Самые родные и самые близкие. Вы должны научиться любить, прощать и помогать друг другу». И слово «должны» не режет слух, при условии, что «любить» становится определяющим понятием. В нашей семье этого не случилось, потому что главным всегда было – «должны помогать». Что же в этом плохого? – спросите вы. Вы спросите, а я постараюсь объяснить.
В семье я – младшая, а младшим принято помогать. Поначалу им помогают держать ложку, одеваться и шнуровать ботиночки, чуть позже – делать уроки, жарить картошку и варить пельмени. Потом уже, по необходимости – торопятся подставить плечо, выручают деньгами, поддерживают, потому что любят, переживают и очень хотят, чтобы эти младшие были счастливы. А младшие, в свою очередь, вырастая, окрепнув и повзрослев, тоже в ответку – и плечо, и поддержку, и руку помощи, потому как – тоже любят и переживают, и очень хотят, чтобы и старшие были счастливы. Но, если забота о тебе продиктована не любовью, а одной только родственной обязанностью, то – это, поверьте мне, неподъемная ноша, отягощенная чувством вины. И тащишь ты по жизни этот груз вины до тех пор, пока не попадется на твоем пути умная книжка, статья или толковый психолог. И освободишься ты от всего этого понемногу и с большим трудом, и вздохнешь свободно. А если не попадутся, то так и умрешь – виноватой и неблагодарной. И ляжет на тебя эта вина надгробной плитой на веки вечные.
А сейчас, давайте вернемся к тому трагическому месту моего повествования, где меня, словно ветер в бутылку, заперли одну в пустой квартире. В пустой, не в смысле мебели, а в смысле общения. Это сейчас – можно позвонить кому угодно, выйти в скайп и войти в интернет, а тогда… А тогда, это было равносильно смерти. Во всяком случае для меня.
Спасали две вещи: лето и первый этаж, достаточно низкий для того, чтобы я могла разговаривать с друзьями через окно. Через него же я поила жаждущих водой, кормила голодных бутербродами и показывала кукольные представления всем скучающим.
Когда все сюжеты для кукольных спектаклей в моей голове иссякли, руки затекли, а мне осточертело, сидя на корточках, оставаться невидимкой, мною придумалось нечто совершенно неисследованное, а именно – открытие домашней ветлечебницы. Через окно на веревке была спущена табуретка, на которую становился каждый, пришедший к «доктору» на прием. В течение двух часов все близлежащие подвалы, чердаки и кусты были исследованы на наличие беспризорных кошек и собак. Позже ко мне стали поступать и другие, уже домашние, «животные» – попугаи, канарейки, аквариумные рыбки и один карась, только-только купленный в гастрономе. Когда закончились и они, в ход пошли кузнечики, бабочки, тараканы и даже две большие зеленые мухи. Я осматривала всех, ставила диагноз и госпитализировала. Так что к приходу мамы в квартире мяукало, гавкало, жужжало и гадило одиннадцать кошек, четыре котенка, восемь собак, две банки с рыбками, и десять спичечных коробков с кузнечиками, тараканами и двумя зелеными мухами. Ругать меня мама не стала, лишь молча выпустила всю живность на волю и тщательно вымыла полы, с хлоркой. Больше меня в квартире не запирали.
С началом сентября всем стало полегче – я пошла в школу. Училась я хорошо и всячески активничала в общественной жизни: собирала макулатуру, рисовала стенгазеты, возглавляла тимуровское движение и принимала участие в подготовке КВН-ов, школьных утренников и вечеров.
Меня было так много, что хватало на всё и на всех, но, мне хотелось еще больше – еще больше новых друзей и интересных событий. А, приблизительно с пятого класса я начала влюбляться. Первый раз это случилось с одноклассником Сережей, который был приглашен на мой день рождения, – и пришел, зажав под мышкой огромную коробку конфет, а в протянутой руке – скромный букет неярких нарциссов. Как выяснилось позже, в гости его собирала мама, которая очень хорошо отнеслась к нашей дружбе. Сережа был ленивым троечником, а я – активной отличницей, и этот мезальянс пришелся ей по душе, но никак не оправдал ее ожиданий. Сережа не стал лучше учиться и, вообще, очень скоро меня разочаровал, хотя и остался мне другом на долгие годы. Я, вообще, всегда была убеждена, что друзей должно быть много. Как можно больше.
Перевлюблявшись во всех мальчишек своего класса, кроме троих, самых неликвидных – коротконогого и толстопопого Гиржмана (убейте, не помню как его звали), пришлепнутого Александра Романенко и красавца Кости Агаркова, влюбленного в самого себя по самое не хочу.
Моя студенческая жизнь тоже была полна событиями. Мы ездили на картошку, красили качели в подшефном пионерлагере, а летом работали там же пионервожатыми. И снова вокруг меня все бурлило, кипело и фонтанировало. Идеи выскакивали из моей головы с необычайной легкостью, заражая всех и будоража.
Несмотря на всю свою недоласканность, главной моей потребностью было не получать, а отдавать эту самую энергию любви. Откуда она бралась неведомо, но, ее во мне уже накопилось столько, что, порой, она начинала вскипать в моей крови, отзываясь во всем теле ноющей болью. Нерастраченная и невостребованная любовь распинала меня изнутри, натягивая кожу и угрожая взорваться, разнести в клочья душу и тело. Я так ощущала. И с этим надо было что-то делать.
В то время я напоминала щенка алабая, большого, жизнерадостного, любвиобильного, который носится от человека к человеку, тычется носом в ладонь каждому, кто поманит, подпрыгивает и старается лизнуть лицо, повизгивая от переполняющих его чувств. Ошалевший от любви, глупый, искренний, преданный собачий дурак.
Я всячески участвовала в судьбах своих многочисленных друзей и подруг, постоянно кого-то выручала, спасала, выслушивала и мирила поссорившихся. Мне до всего было дело, потому что – очень нравилось быть нужной и востребованной, но еще сильнее мне хотелось быть любимой. Стать единственной для кого-то одного. Но, этого почему-то не происходило. И больше всего на свете мне хотелось знать – почему?
Один мой друг-фотограф, с которым мы однажды провели целый день, снимая цветущие в парке деревья, а потом, устав и изголодавшись, «упали» в одной из кафешек, заказав по двойной порции дерунов и по пятьдесят водки, захмелел и признался:
– Опасная ты, Дашка, ой – опасная…
– В каком смысле? – уточнила я, слегка опешив, и удивленно помахивая вилкой.
– Ну… с тобой, это, как на ящике с динамитом сидеть, не знаешь, когда рванет!
Он жестом подозвал официанта и попросил «повторить», а когда тот принес нам еще две полные стопки, быстро влил одну из них в себя и добавил, вальяжно откинувшись на спинку стула и подняв вверх указательный палец:
– Но, существует один очень хороший способ себя обезопасить.
Я тоже выпила свои пятьдесят грамм и спросила, громко икнув:
– Какой?
– Дать рвануть!
После этих слов горе-фотограф вдруг наклонился ко мне и, не дав опомниться, впился изгвазданными жиром губами в мои губы. Я попыталась вырваться, но, он еще жестче прижал меня к себе. Это был первый поцелуй в моей жизни. И первое разочарование. Мне не понравилось. Совсем. Казалось, будто огромная пьяная пиявка вцепилась в мои губы и потихоньку всасывает меня внутрь. Я уже ощутила, как мокро, темно и душно там, у нее там – в пиявочной середине. Поэтому, стоило моему партнеру чуть ослабить хватку, как я отпрянула от его лица и, размахнувшись, влепила предприимчивому другу яростную пощечину.
– Дашка, ты что – совсем охренела?!
Он тер пылающую щеку, обиженно поджав блестящие губы.
– А какого черта ты лезешь ко мне со своим… этим…
Я не хотела называть это поцелуем. Мне не с чем было сравнивать, но я почему-то была уверена, что настоящий поцелуй выглядит совсем иначе. И, как оказалось в последствии, не ошиблась.
– Дура, я же по-дружески, – попытался оправдаться фотограф.
– «По-дружески» хлопают по плечу, а целуются – по любви, – буркнула я, потянувшись за сумкой – у меня появилось непреодолимое желание уйти.
– Целуются по-всякому. Маленькая ты еще, не понимаешь…
– А ты, выходит, большой? – огрызнулась я и оглянулась в поисках официанта, не хотела, чтобы он за меня платил.
– Выходит – так…
Мой собеседник успокоился, достал сигарету, закурил.
– Значит, по-твоему, взрослый мир – это, когда вот так – с кем угодно, без чувств…
– Ну почему же «без чувств»? – ухмыльнулся он. – Возбуждение – тоже чувство.
– Которым можно оправдать все? Даже изнасилование?! – спросила я достаточно зло.
– Вот только утрировать не надо.
Мы помолчали. Он, в общем-то, был неплохим парнем, но и не настолько хорошим, чтобы зацепиться в моем сердце. Вот видите, я даже имени его вспомнить не могу. Фотограф и фотограф.
– Знаешь, вот это твое «ни поцелуя без любви» как-то очень уж старомодно выглядит…, – сказал он на прощанье так, словно пожалел меня. – Сколько тебе лет, Дашка?
– Сколько ни есть – все мои!
«Все мои» приближались к двадцати. Тоска по любви набрала критической массы. Недообнятое и недоласканное тело изнывало от желания выплескиваться и поглощать, соприкоснувшись душами. А «душа» для соприкосновения все не находилась и не находилась. Та единственная, твоя. И это было так странно и так мучительно – оставаться среди людей и постоянно ощущать свое одиночество, словно замерзать на пляже в самую жару. Нет, у меня, конечно, случались взаимные симпатии, но как-то все обрывалось еще не начавшись. То, мой избранник уезжал в другой город учиться, то уходил в армию, то просто исчезал без объяснения причин. А я страдала. Боже мой, как же невозможно я страдала, каждый раз свято веря, что именно он и был моей судьбой, и что никогда и никого я уже так не полюблю, так сильно и так самозабвенно.