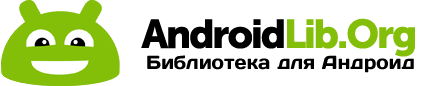AndroidLib » Читалка
Пушкин как наш Христос
Пушкин как наш Христос
Дмитрий Львович Быков
Прямая речь
«Я никогда еще не приступал к предмету изложения с такой робостью, поскольку тема звучит уж очень кощунственно. Страхом любого исследователя именно перед кощунственностью формулировки можно объяснить ее сравнительную малоизученность. Здесь можно, пожалуй, сослаться на одного Борхеса, который, и то чрезвычайно осторожно, намекнул, что в мировой литературе существуют всего три сюжета, точнее, он выделил четыре, но заметил, что один из них, в сущности, вариация другого. Два сюжета известны нам из литературы ветхозаветной и дохристианской – это сюжет о странствиях хитреца и об осаде города; в основании каждой сколько-нибудь значительной культуры эти два сюжета лежат обязательно…»
Дмитрий Быков
Пушкин как наш Христос
Я никогда еще не приступал к предмету изложения с такой робостью, поскольку тема звучит уж очень кощунственно. Страхом любого исследователя именно перед кощунственностью формулировки можно объяснить ее сравнительную малоизученность. Здесь можно, пожалуй, сослаться на одного Борхеса, который, и то чрезвычайно осторожно, намекнул, что в мировой литературе существуют всего три сюжета, точнее, он выделил четыре, но заметил, что один из них, в сущности, вариация другого. Два сюжета известны нам из литературы ветхозаветной и дохристианской – это сюжет о странствиях хитреца и об осаде города; в основании каждой сколько-нибудь значительной культуры эти два сюжета лежат обязательно. Иногда они существуют отдельно друг от друга, как «Илиада» и «Одиссея», иногда сливаются в один, как в случае Сервантеса, когда Санчо Панса – это странствующий хитрец, а Дон Кихот – вечно воюющий рыцарь. Иногда происходят с запозданием и в обратном порядке, как, например, в русской литературе, где странствия хитреца, чичиковские странствия, явно ориентированные на «Одиссею», предшествуют русской «Илиаде», написанной с огромным опозданием и называемой «Война и мир».
А вот дальше приходит сюжет новозаветный. Сюжет, который, называется у Борхеса «самоубийством бога». К сожалению, до сих пор ни в структурализме, ни тем более в любой другой литературной школе толком не разработан этот христологический сюжет, хотя на его существование с очень ранних пор намекали самые разные авторы.
Еще Лессинг заметил, что в истории Сократа есть уже все элементы истории Христа: круг учеников, предание себя на смерть, абсолютное бескорыстие, учение идеалистическое, учение притом, безусловно, о свободе. В сущности, Христос стал такой фигурой номер один, что не отменяет величия других христологических фигур в истории, а их довольно много, как это ни странно… Я прошу вас не слишком серьезно относиться ко всему говоримому, а воспринять это с некоторой долей литературоведческой рефлексии. В конце концов, Библия тоже художественный текст, подлежащий формальному анализу.
Христос стал фигурой номер один по аналогии с классическим анекдотом, когда встречаются пастор и раввин и раввин с гордостью говорит: «Вот если Вам очень повезет, падре, каков может быть венец Вашей карьеры?» – «Я могу стать кардиналом». – «А если ОЧЕНЬ повезет?» – «Могу стать папой». – «Но Богом Вы стать не можете?» – «Нет, Богом не могу». – «А вот наш все-таки пробился!» Это совершенно справедливая точка зрения. И, строго говоря, воскресение Христа – это единственное, по сути дела, отличие главной христианской концепции от всех остальных христологических мифов, которые в мире существуют. И с большой долей вероятности можно утверждать, что у Христа действительно получилось.
В основании почти каждой большой мировой культуры лежит миф о самоубийстве Бога. Некоторые такие мифы проследил сам Борхес, в частности, изучая историю Скандинавии и скандинавскую мифологию. Можно и у итальянцев проследить такую фигуру. Это фигура довольно очевидная, которая, кстати говоря, продолжает и копирует в некотором смысле основные этапы эволюции Христа, – это, разумеется, Данте, фигура изгнанническая, которая спускается в ад и, кроме того, выполняет еще одну важнейшую функцию – мы прекрасно понимаем, что фигура христианского типа никогда не свидетельствует сама о себе. За ней всегда есть некто, пославший ее, на которого она всегда и ссылается. В случае Данте это Вергилий, на которого он ссылается прямо и который есть транслятор великих доблестей Рима, как бы непосредственный мотив преемственности вводится здесь сразу же.
То, что фигура христианского плана никогда не может ссылаться на себя как на источник собственного учения, происходит не только потому, что ей нужна какая-то высшая небесная легитимация, а потому что это всегда очень скромная фигура, которая всегда вполне намеренно и сознательно переводит главный свет на стоящего за ней. И вот в этом главное отличие христианства от сектанства. Потому что вождь любой секты всегда есть фигура центропупическая, и в этом именно залог гибели этой секты. Тогда как основатель культуры – фигура по-настоящему божественная, всегда переводит свет на того, кто стоит за ним. И, естественно, в случае Пушкина мы наблюдаем точно такой же перевод. И Бог-Отец в случае Пушкина вполне очевиден – это тот самый Петр Великий, который и принес нам божественного младенца. Уж потом от этого божественного младенца, что очень важно – пришедшего из колыбели человечества, из самого Чада, – он как раз и ведет род русской поэзии.
Но самое интересно: там, откуда, собственно, и вышел пушкинский миф и пушкинские корни, где-то далеко, на границе Чада, где, по всей видимости, по современным данным, и жил когда-то первые 11 лет своей жизни маленький Абрагам Ганнибал, – вот там занятия поэзией считаются чрезвычайно престижными, более того, мужчина, не умеющий сложить песни, там считается таким же ничтожеством, как у нас, допустим, мужчина, не умеющий плавать. И Пушкин, конечно, носитель этой высшей воинской добродетели. Более того, в этом таинственном султанате Логон, там именно воин считается главной поэтической фигурой, и, более того, если воин не может спеть песнь о своей победе, победа тем самым совершенно обесценивается.
Поскольку очень долго бытовал миф об эфиопском происхождении Пушкина, миф, ни на чем не основанный, опровергнутый только в ХХ веке, его корни принято было искать в Эритрее. Но именно потом, когда, наконец, делегация от Пушкинского Дома добралась до Логона, мы узнали многие корни, многие причины пушкинского отношения к своей лире, его абсолютно героического, в некотором смысле самурайского отношения к поэзии. Там, где боевые слоны до сих пор существенный вид транспорта, там спеть о победе, может быть, даже более важная вещь, чем победить.
Если говорить уж совсем серьезно и проводить вот эти структуралистские аналогии с пушкинским мифом, можно заметить одну совершенно феноменальную вещь. Пушкин, безусловно, создал нравственное учение, как создал его и Алигьеридля итальянцев, как создал его Христос для всей европейской культуры. Но нравственное учение Пушкина находится в удивительной гармонии с его жизнью и в удивительном разладе с традиционными, навязанными нам представлениями о морали. Мне кажется, что самая высокая и самая гордая в каком-то смысле задача пушкинистики – это прочитать нравственные заповеди Пушкина, попытаться вывести ту настоящую русскую религию, которая у нас, по большому счету, заменена литературой. Ведь совершенно очевидно, что русская литература, корпус ее текстов – это и есть наша русская Библия. Сказать, что эта Библия учит исключительно добру или, Боже упаси, правильному поведению, было бы совершенно неправильно. Но тем не менее определенные моральные запреты, очень своеобразные, очень нестандартные на фоне любых традиционных этических учений, там содержатся, и, более того, тот, кто соблюдает этот пушкинский нравственный кодекс, тот в России чувствует себя прекрасно, тому и уезжать никуда не надо. Он может, конечно, под небом сумрачной России вечно вздыхать о своей далекой Африке, но тем не менее ему здесь хорошо. Правила жизни пушкинские – это правила такой жизни, чтобы в России было хорошо, чтобы страна была наша, а не эта.
Пушкин оставил нам удивительно точный нравственный свод, который полностью вмещается в шесть строчек:
Душа моя Павел,
(обращается он к сыну своего друга Вяземского)
Держись моих правил:
Люби то-то, то-то,
Не делай того-то.
Кажись, это ясно.
Прощай, мой прекрасный.
Здесь есть уже как минимум две существенные нравственные заповеди. Пушкин нигде не говорит: делай так-то. Кодекс поведения в России может быть определен только, так сказать, апофатически – нет обязательных вещей, которые надо делать, но есть вещи, делать которые ни в коем случае нельзя. И на самом деле это и есть главное определение интеллигенции. Интеллигент – это не тот человек, который делает то-то, то-то и то-то, это человек, который не делает нескольких очень простых вещей, но их он не делает никогда. Он не предает себя, свои принципы, ближнего. Он не ходит к власти на поклон и отстаивает право разговаривать с ней на равных, что есть его главная заповедь. И, наконец, он не руководствуется в своем поведении прагматическими соображениями. Все это чрезвычайно ясно и легко вытекает из пушкинской судьбы.
«Люби то-то, то-то» – это тоже непременно нужно, потому что если мы не будем чего-нибудь любить, все наши дела и поползновения ничего не стоят. Можно любить водку, можно любить женщину, можно любить даже карточную игру, но надо любить обязательно и очень сильно, без этого ничто не имеет смысла.
Именно точное соответствие биографии и заповедей, как правило, делает христологическую фигуру лежащей в основании конкретной культуры.
Если она отступает от своих заповедей, мы получаем прекрасного поэта, в лучшем случае. Иногда посредственного поэта, иногда выдающегося злодея. Но христологию создает гармония между учением и личностью. Это как раз случай Сократа, наиболее наглядный. Случай Христа. Идеальный практически случай Пушкина, где каждое слово подкреплено поведенчески, где любой отход от себя просто немыслим, потому что автор не сможет далее писать.
И вот на этом фоне самое интересное – это те добродетели, которые выделяет Пушкин. В одном из его писем сказано: «Мщение есть христианская добродетель». И, безусловно, умение соблюсти свое достоинство, умение соблюсти личную честь – это для Пушкина добродетель главная.
Мережковский в свое время в лучшей, навероное, статье о Пушкине, которая существует в русской литературе, в цикле «Вечные спутники» прослеживает две линии русской поэзии: первая линия, восходящая к Пушкину, аристократическая; вторая линия, восходящая к разночинцам, к Некрасову, линия интеллигентская, линия недворянская.
Я вообще думаю, что наше полузнание о Мережковском, наше безразличие к нему – это всего лишь следствие нашей духовной замшелости, отсталости. Я убежден, что лет через двести-триста Мережковский будет признан главным, если не писателем, то мыслителем ХХ века.
Так вот, в этом различении Мережковский совершенно справедливо замечает, что русская литература Пушкина предала. Почему? Потому что для Пушкина нет интереса в пользе, нет интереса в цели, нет другого целеполагания, кроме «звуков сладких и молитв». А польза называется «презренной».
Русская же литература в своем неаристократическом, «презренном» служении какому-то никому не нужному благу предпочла поставить словесность на службу идеям, на службу нравственной проповеди, а иногда, что есть худший случай, на пользу государству.
Пушкин весь в ужасе передергивается от этой идеи. Знаменитый диалог «Поэт и толпа», а вернее было бы «Поэт и чернь», потому что у Пушкина это чернь однозначно, – это ведь не диалог поэта с народом, это диалог поэта с идиотами, которые пытаются приспособить Божий дар к яичнице, то есть к изготовлению пищи.
Ты пользы, пользы в нем не зришь,
(говорит он о бельведерском кумире)
Но мрамор сей ведь бог!.. так что же?
Печной горшок тебе дороже:
Ты пищу в нем себе варишь!
Писарев, человек, в общем, неглупый и даже остроумный, но очень многого не понимавший в силу своей душевной болезни, отвечает на это репликой: «Ну а ты, возвышенный кретин, ты, сын небес, ты в чем варишь себе пищу? В горшке или бельведерском кумире? Или ты питаешься той амброзиею, которая ни в чем не варится, а посылается тебе в готовом виде из твоей небесной родины?»
«Совершенно верно, ты угадал, милый кретин, – хотелось бы сказать ему, – да, той амброзией, которая ни в чем не варится». Потому что для Пушкина забота о нуждах низкой жизни, забота о презренной пользе – абсолютный идиотизм, поэта Бог питает, поэт лучше птиц небесных. И здесь, кстати говоря, Пушкин абсолютно следует учению Христа. Прекрасная праздность, великолепная вольность, непривязанность ни к какой обязанности – «вот счастье, вот права».
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья.
Вот счастье! вот права…
Все, кто лезет с интересами презренной пользы, политики, нравственного воспитания масс, могут отправляться лесом, потому что культура совершенно не для того, молния не для того, чтобы на ней варили суп. И вот это прекрасное сознание бесполезности, любовь к праздности – это тоже еще одна очень существенная русская заповедь.
Я думаю, многие люди, живущие в России, иногда замечали: чем тяжелее и мучительнее их труд, тем меньше они за него получают. Нужно сказать откровенно, я многажды наблюдал: оплачивается в России только тот труд, который ничего не стоит. Или, более того, тот, который совершается в удовольствие и потому не замечается. В России ничего нельзя заработать систематическими, ненужными, страшно вредными и при этом отчаянными усилиями. Любой человек, который каждый день ходит на нелюбимую работу, рано или поздно окажется в положении того несчастного дурака, который вдруг увидел перед собой своего приятеля, никогда ничего не делавшего, просто пинавшего балду, по-русски говоря, и вдруг отрывшего у себя на огороде золотой самородок. Это типично русская история. Въехать в счастье на печи. И Пушкин это прекрасно понимает.
Пушкин – великий труженик, по десять раз переписывавший, бывало, одну строфу, в этом труде не видящий ничего обременительного, считающий его легким (Рифма – звучная подруга//Вдохновенного досуга), числящий этот адский труд по части досуга, Пушкин никогда в жизни не мог бы заниматься никакой систематической работой, а если бы он ею занимался, у него бы ничего не выходило.
На одной из лекций мне приходилось уже развивать мое чрезвычайно субъективное, но, думаю, верное определение гения, вернее, отличие гения от таланта. Нет ничего более враждебного гению, чем талант. У таланта все получается одинаково неплохо. Гений безобразно, отвратительно делает все, кроме чего-то одного, зато в этом одном он лучше всех. Больше того, гений может вообще ничего не писать. Об этом замечательно сказал Давид Самойлов:
В этот час гений садится писать стихи…
В этот час сто талантов садятся писать стихи.
В этот час тыща профессионалов садятся писать стихи.
В этот час сто тыщ графоманов садятся писать стихи.
В этот час миллион одиноких девиц садятся писать стихи.
В этот час десять миллионов влюбленных юнцов садятся писать стихи.
В результате этого грандиозного мероприятия
Рождается одно стихотворение.
Или гений, зачеркнув написанное,
Отправляется в гости.
Вот это совершенно справедливо. Гений больше делает для литературы, перечеркнув написанное и отправившись в гости, нежели выдавив из себя четыре никому не нужные строчки. Великолепная праздность, великолепная легкость отношения к труду – вот это как раз в Пушкине есть. Более того, любые попытки заставить Пушкина работать на благо отечества, как мы помним, заканчивались чем-то вроде отчета о саранче:
Саранча летела, летела
И села.
Сидела, сидела,
Все съела
И вновь улетела.
И более точного отчета о борьбе с саранчой не мог бы выдумать никто, ведь так оно и было.
Есть еще одна очень существенная заповедь, которая осталась у нас от Пушкина, вот это, пожалуй, заповедь самая трудная к исполнению. Мы прекрасно помним стихотворение «Коварность», обращенное к Александру Раевскому, мы знаем, почему оно к нему обращено, мы знаем механизм появления Онегина, правда, к сожалению, многие из нас по-прежнему думают, что Онегин – это лишний человек, страдающий титан, умница, которому вдруг, именно потому что он умен, надоело предаваться однообразным наслаждениям, и вот он вдруг вырос над породившей его средой.
Ничего подобного. На самом деле, если мы вчитаемся в роман, мы заметим удивительную особенность – Пушкин никогда, если он сам называет свое произведение, а не когда публикаторы дают ему имя, Пушкин никогда не называет вещь в соответствии с главной идеей, пушкинская мысль, как правильно пишет Синявский, всегда съезжает по диагонали. «Капитанская дочка» не про капитанскую дочку. «Пиковая дама» не про пиковую даму. И уж конечно «Евгений Онегин» не про Евгения Онегина.
Евгений Онегин не более чем спусковой механизм сюжета, персонаж, с которым автор намерен свести счеты, потому что ему надели молодые бездельники, считавшие себя выше его. Он решает им показать, кто на самом деле чего-то стоит. Весь роман – это отчаянная и вполне удавшаяся попытка свести счеты с молодым хлыщом, выдающим себя за что-то.
Нужно заметить, что Евгений Онегин во всей галерее российских лишних людей наиболее неприятная личность. Мало того, что это, грубо говоря, дурак, который знает из «Энеиды» два стиха и в конце письма может поставить «vale», что современный школьник интерпретирует как обращение к некоей Валентине, потому что он и этого не знает.
Евгений Онегин – «ученый малый, но педант» именно потому, что он может потолковать о Ювенале, которого сроду не читал. Евгений Онегин не может дочитать до конца ни одной книги и «полку с пыльной их семьей» задергивает «траурной тафтой». «Труд упорный» литературный ему тошен. «И ничего не вышло из пера его».
Более того, это хладнокровный убийца, который убивает Ленского единственно из страха перед совершенным ничтожеством – «вмешался старый дуэлист; // Он зол, он сплетник, он речист», но если он такая дрянь, то почему же ты так его боишься? Тем не менее страх перед ним оказывается сильнее любых нравственных тормозов, и, как совершенно справедливо на этот раз замечает Писарев, из этого мы видим, что Онегин – человек безнадежно пустой и совершенно ничтожный.
Я уж не говорю о том, как он поговорил с Татьяной, «очень мило поступил с печальной Таней наш приятель», замечает автор, и трудно не понять этой авторской ремарки.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22098121&lfrom=201587221) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Дмитрий Львович Быков
Прямая речь
«Я никогда еще не приступал к предмету изложения с такой робостью, поскольку тема звучит уж очень кощунственно. Страхом любого исследователя именно перед кощунственностью формулировки можно объяснить ее сравнительную малоизученность. Здесь можно, пожалуй, сослаться на одного Борхеса, который, и то чрезвычайно осторожно, намекнул, что в мировой литературе существуют всего три сюжета, точнее, он выделил четыре, но заметил, что один из них, в сущности, вариация другого. Два сюжета известны нам из литературы ветхозаветной и дохристианской – это сюжет о странствиях хитреца и об осаде города; в основании каждой сколько-нибудь значительной культуры эти два сюжета лежат обязательно…»
Дмитрий Быков
Пушкин как наш Христос
Я никогда еще не приступал к предмету изложения с такой робостью, поскольку тема звучит уж очень кощунственно. Страхом любого исследователя именно перед кощунственностью формулировки можно объяснить ее сравнительную малоизученность. Здесь можно, пожалуй, сослаться на одного Борхеса, который, и то чрезвычайно осторожно, намекнул, что в мировой литературе существуют всего три сюжета, точнее, он выделил четыре, но заметил, что один из них, в сущности, вариация другого. Два сюжета известны нам из литературы ветхозаветной и дохристианской – это сюжет о странствиях хитреца и об осаде города; в основании каждой сколько-нибудь значительной культуры эти два сюжета лежат обязательно. Иногда они существуют отдельно друг от друга, как «Илиада» и «Одиссея», иногда сливаются в один, как в случае Сервантеса, когда Санчо Панса – это странствующий хитрец, а Дон Кихот – вечно воюющий рыцарь. Иногда происходят с запозданием и в обратном порядке, как, например, в русской литературе, где странствия хитреца, чичиковские странствия, явно ориентированные на «Одиссею», предшествуют русской «Илиаде», написанной с огромным опозданием и называемой «Война и мир».
А вот дальше приходит сюжет новозаветный. Сюжет, который, называется у Борхеса «самоубийством бога». К сожалению, до сих пор ни в структурализме, ни тем более в любой другой литературной школе толком не разработан этот христологический сюжет, хотя на его существование с очень ранних пор намекали самые разные авторы.
Еще Лессинг заметил, что в истории Сократа есть уже все элементы истории Христа: круг учеников, предание себя на смерть, абсолютное бескорыстие, учение идеалистическое, учение притом, безусловно, о свободе. В сущности, Христос стал такой фигурой номер один, что не отменяет величия других христологических фигур в истории, а их довольно много, как это ни странно… Я прошу вас не слишком серьезно относиться ко всему говоримому, а воспринять это с некоторой долей литературоведческой рефлексии. В конце концов, Библия тоже художественный текст, подлежащий формальному анализу.
Христос стал фигурой номер один по аналогии с классическим анекдотом, когда встречаются пастор и раввин и раввин с гордостью говорит: «Вот если Вам очень повезет, падре, каков может быть венец Вашей карьеры?» – «Я могу стать кардиналом». – «А если ОЧЕНЬ повезет?» – «Могу стать папой». – «Но Богом Вы стать не можете?» – «Нет, Богом не могу». – «А вот наш все-таки пробился!» Это совершенно справедливая точка зрения. И, строго говоря, воскресение Христа – это единственное, по сути дела, отличие главной христианской концепции от всех остальных христологических мифов, которые в мире существуют. И с большой долей вероятности можно утверждать, что у Христа действительно получилось.
В основании почти каждой большой мировой культуры лежит миф о самоубийстве Бога. Некоторые такие мифы проследил сам Борхес, в частности, изучая историю Скандинавии и скандинавскую мифологию. Можно и у итальянцев проследить такую фигуру. Это фигура довольно очевидная, которая, кстати говоря, продолжает и копирует в некотором смысле основные этапы эволюции Христа, – это, разумеется, Данте, фигура изгнанническая, которая спускается в ад и, кроме того, выполняет еще одну важнейшую функцию – мы прекрасно понимаем, что фигура христианского типа никогда не свидетельствует сама о себе. За ней всегда есть некто, пославший ее, на которого она всегда и ссылается. В случае Данте это Вергилий, на которого он ссылается прямо и который есть транслятор великих доблестей Рима, как бы непосредственный мотив преемственности вводится здесь сразу же.
То, что фигура христианского плана никогда не может ссылаться на себя как на источник собственного учения, происходит не только потому, что ей нужна какая-то высшая небесная легитимация, а потому что это всегда очень скромная фигура, которая всегда вполне намеренно и сознательно переводит главный свет на стоящего за ней. И вот в этом главное отличие христианства от сектанства. Потому что вождь любой секты всегда есть фигура центропупическая, и в этом именно залог гибели этой секты. Тогда как основатель культуры – фигура по-настоящему божественная, всегда переводит свет на того, кто стоит за ним. И, естественно, в случае Пушкина мы наблюдаем точно такой же перевод. И Бог-Отец в случае Пушкина вполне очевиден – это тот самый Петр Великий, который и принес нам божественного младенца. Уж потом от этого божественного младенца, что очень важно – пришедшего из колыбели человечества, из самого Чада, – он как раз и ведет род русской поэзии.
Но самое интересно: там, откуда, собственно, и вышел пушкинский миф и пушкинские корни, где-то далеко, на границе Чада, где, по всей видимости, по современным данным, и жил когда-то первые 11 лет своей жизни маленький Абрагам Ганнибал, – вот там занятия поэзией считаются чрезвычайно престижными, более того, мужчина, не умеющий сложить песни, там считается таким же ничтожеством, как у нас, допустим, мужчина, не умеющий плавать. И Пушкин, конечно, носитель этой высшей воинской добродетели. Более того, в этом таинственном султанате Логон, там именно воин считается главной поэтической фигурой, и, более того, если воин не может спеть песнь о своей победе, победа тем самым совершенно обесценивается.
Поскольку очень долго бытовал миф об эфиопском происхождении Пушкина, миф, ни на чем не основанный, опровергнутый только в ХХ веке, его корни принято было искать в Эритрее. Но именно потом, когда, наконец, делегация от Пушкинского Дома добралась до Логона, мы узнали многие корни, многие причины пушкинского отношения к своей лире, его абсолютно героического, в некотором смысле самурайского отношения к поэзии. Там, где боевые слоны до сих пор существенный вид транспорта, там спеть о победе, может быть, даже более важная вещь, чем победить.
Если говорить уж совсем серьезно и проводить вот эти структуралистские аналогии с пушкинским мифом, можно заметить одну совершенно феноменальную вещь. Пушкин, безусловно, создал нравственное учение, как создал его и Алигьеридля итальянцев, как создал его Христос для всей европейской культуры. Но нравственное учение Пушкина находится в удивительной гармонии с его жизнью и в удивительном разладе с традиционными, навязанными нам представлениями о морали. Мне кажется, что самая высокая и самая гордая в каком-то смысле задача пушкинистики – это прочитать нравственные заповеди Пушкина, попытаться вывести ту настоящую русскую религию, которая у нас, по большому счету, заменена литературой. Ведь совершенно очевидно, что русская литература, корпус ее текстов – это и есть наша русская Библия. Сказать, что эта Библия учит исключительно добру или, Боже упаси, правильному поведению, было бы совершенно неправильно. Но тем не менее определенные моральные запреты, очень своеобразные, очень нестандартные на фоне любых традиционных этических учений, там содержатся, и, более того, тот, кто соблюдает этот пушкинский нравственный кодекс, тот в России чувствует себя прекрасно, тому и уезжать никуда не надо. Он может, конечно, под небом сумрачной России вечно вздыхать о своей далекой Африке, но тем не менее ему здесь хорошо. Правила жизни пушкинские – это правила такой жизни, чтобы в России было хорошо, чтобы страна была наша, а не эта.
Пушкин оставил нам удивительно точный нравственный свод, который полностью вмещается в шесть строчек:
Душа моя Павел,
(обращается он к сыну своего друга Вяземского)
Держись моих правил:
Люби то-то, то-то,
Не делай того-то.
Кажись, это ясно.
Прощай, мой прекрасный.
Здесь есть уже как минимум две существенные нравственные заповеди. Пушкин нигде не говорит: делай так-то. Кодекс поведения в России может быть определен только, так сказать, апофатически – нет обязательных вещей, которые надо делать, но есть вещи, делать которые ни в коем случае нельзя. И на самом деле это и есть главное определение интеллигенции. Интеллигент – это не тот человек, который делает то-то, то-то и то-то, это человек, который не делает нескольких очень простых вещей, но их он не делает никогда. Он не предает себя, свои принципы, ближнего. Он не ходит к власти на поклон и отстаивает право разговаривать с ней на равных, что есть его главная заповедь. И, наконец, он не руководствуется в своем поведении прагматическими соображениями. Все это чрезвычайно ясно и легко вытекает из пушкинской судьбы.
«Люби то-то, то-то» – это тоже непременно нужно, потому что если мы не будем чего-нибудь любить, все наши дела и поползновения ничего не стоят. Можно любить водку, можно любить женщину, можно любить даже карточную игру, но надо любить обязательно и очень сильно, без этого ничто не имеет смысла.
Именно точное соответствие биографии и заповедей, как правило, делает христологическую фигуру лежащей в основании конкретной культуры.
Если она отступает от своих заповедей, мы получаем прекрасного поэта, в лучшем случае. Иногда посредственного поэта, иногда выдающегося злодея. Но христологию создает гармония между учением и личностью. Это как раз случай Сократа, наиболее наглядный. Случай Христа. Идеальный практически случай Пушкина, где каждое слово подкреплено поведенчески, где любой отход от себя просто немыслим, потому что автор не сможет далее писать.
И вот на этом фоне самое интересное – это те добродетели, которые выделяет Пушкин. В одном из его писем сказано: «Мщение есть христианская добродетель». И, безусловно, умение соблюсти свое достоинство, умение соблюсти личную честь – это для Пушкина добродетель главная.
Мережковский в свое время в лучшей, навероное, статье о Пушкине, которая существует в русской литературе, в цикле «Вечные спутники» прослеживает две линии русской поэзии: первая линия, восходящая к Пушкину, аристократическая; вторая линия, восходящая к разночинцам, к Некрасову, линия интеллигентская, линия недворянская.
Я вообще думаю, что наше полузнание о Мережковском, наше безразличие к нему – это всего лишь следствие нашей духовной замшелости, отсталости. Я убежден, что лет через двести-триста Мережковский будет признан главным, если не писателем, то мыслителем ХХ века.
Так вот, в этом различении Мережковский совершенно справедливо замечает, что русская литература Пушкина предала. Почему? Потому что для Пушкина нет интереса в пользе, нет интереса в цели, нет другого целеполагания, кроме «звуков сладких и молитв». А польза называется «презренной».
Русская же литература в своем неаристократическом, «презренном» служении какому-то никому не нужному благу предпочла поставить словесность на службу идеям, на службу нравственной проповеди, а иногда, что есть худший случай, на пользу государству.
Пушкин весь в ужасе передергивается от этой идеи. Знаменитый диалог «Поэт и толпа», а вернее было бы «Поэт и чернь», потому что у Пушкина это чернь однозначно, – это ведь не диалог поэта с народом, это диалог поэта с идиотами, которые пытаются приспособить Божий дар к яичнице, то есть к изготовлению пищи.
Ты пользы, пользы в нем не зришь,
(говорит он о бельведерском кумире)
Но мрамор сей ведь бог!.. так что же?
Печной горшок тебе дороже:
Ты пищу в нем себе варишь!
Писарев, человек, в общем, неглупый и даже остроумный, но очень многого не понимавший в силу своей душевной болезни, отвечает на это репликой: «Ну а ты, возвышенный кретин, ты, сын небес, ты в чем варишь себе пищу? В горшке или бельведерском кумире? Или ты питаешься той амброзиею, которая ни в чем не варится, а посылается тебе в готовом виде из твоей небесной родины?»
«Совершенно верно, ты угадал, милый кретин, – хотелось бы сказать ему, – да, той амброзией, которая ни в чем не варится». Потому что для Пушкина забота о нуждах низкой жизни, забота о презренной пользе – абсолютный идиотизм, поэта Бог питает, поэт лучше птиц небесных. И здесь, кстати говоря, Пушкин абсолютно следует учению Христа. Прекрасная праздность, великолепная вольность, непривязанность ни к какой обязанности – «вот счастье, вот права».
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья.
Вот счастье! вот права…
Все, кто лезет с интересами презренной пользы, политики, нравственного воспитания масс, могут отправляться лесом, потому что культура совершенно не для того, молния не для того, чтобы на ней варили суп. И вот это прекрасное сознание бесполезности, любовь к праздности – это тоже еще одна очень существенная русская заповедь.
Я думаю, многие люди, живущие в России, иногда замечали: чем тяжелее и мучительнее их труд, тем меньше они за него получают. Нужно сказать откровенно, я многажды наблюдал: оплачивается в России только тот труд, который ничего не стоит. Или, более того, тот, который совершается в удовольствие и потому не замечается. В России ничего нельзя заработать систематическими, ненужными, страшно вредными и при этом отчаянными усилиями. Любой человек, который каждый день ходит на нелюбимую работу, рано или поздно окажется в положении того несчастного дурака, который вдруг увидел перед собой своего приятеля, никогда ничего не делавшего, просто пинавшего балду, по-русски говоря, и вдруг отрывшего у себя на огороде золотой самородок. Это типично русская история. Въехать в счастье на печи. И Пушкин это прекрасно понимает.
Пушкин – великий труженик, по десять раз переписывавший, бывало, одну строфу, в этом труде не видящий ничего обременительного, считающий его легким (Рифма – звучная подруга//Вдохновенного досуга), числящий этот адский труд по части досуга, Пушкин никогда в жизни не мог бы заниматься никакой систематической работой, а если бы он ею занимался, у него бы ничего не выходило.
На одной из лекций мне приходилось уже развивать мое чрезвычайно субъективное, но, думаю, верное определение гения, вернее, отличие гения от таланта. Нет ничего более враждебного гению, чем талант. У таланта все получается одинаково неплохо. Гений безобразно, отвратительно делает все, кроме чего-то одного, зато в этом одном он лучше всех. Больше того, гений может вообще ничего не писать. Об этом замечательно сказал Давид Самойлов:
В этот час гений садится писать стихи…
В этот час сто талантов садятся писать стихи.
В этот час тыща профессионалов садятся писать стихи.
В этот час сто тыщ графоманов садятся писать стихи.
В этот час миллион одиноких девиц садятся писать стихи.
В этот час десять миллионов влюбленных юнцов садятся писать стихи.
В результате этого грандиозного мероприятия
Рождается одно стихотворение.
Или гений, зачеркнув написанное,
Отправляется в гости.
Вот это совершенно справедливо. Гений больше делает для литературы, перечеркнув написанное и отправившись в гости, нежели выдавив из себя четыре никому не нужные строчки. Великолепная праздность, великолепная легкость отношения к труду – вот это как раз в Пушкине есть. Более того, любые попытки заставить Пушкина работать на благо отечества, как мы помним, заканчивались чем-то вроде отчета о саранче:
Саранча летела, летела
И села.
Сидела, сидела,
Все съела
И вновь улетела.
И более точного отчета о борьбе с саранчой не мог бы выдумать никто, ведь так оно и было.
Есть еще одна очень существенная заповедь, которая осталась у нас от Пушкина, вот это, пожалуй, заповедь самая трудная к исполнению. Мы прекрасно помним стихотворение «Коварность», обращенное к Александру Раевскому, мы знаем, почему оно к нему обращено, мы знаем механизм появления Онегина, правда, к сожалению, многие из нас по-прежнему думают, что Онегин – это лишний человек, страдающий титан, умница, которому вдруг, именно потому что он умен, надоело предаваться однообразным наслаждениям, и вот он вдруг вырос над породившей его средой.
Ничего подобного. На самом деле, если мы вчитаемся в роман, мы заметим удивительную особенность – Пушкин никогда, если он сам называет свое произведение, а не когда публикаторы дают ему имя, Пушкин никогда не называет вещь в соответствии с главной идеей, пушкинская мысль, как правильно пишет Синявский, всегда съезжает по диагонали. «Капитанская дочка» не про капитанскую дочку. «Пиковая дама» не про пиковую даму. И уж конечно «Евгений Онегин» не про Евгения Онегина.
Евгений Онегин не более чем спусковой механизм сюжета, персонаж, с которым автор намерен свести счеты, потому что ему надели молодые бездельники, считавшие себя выше его. Он решает им показать, кто на самом деле чего-то стоит. Весь роман – это отчаянная и вполне удавшаяся попытка свести счеты с молодым хлыщом, выдающим себя за что-то.
Нужно заметить, что Евгений Онегин во всей галерее российских лишних людей наиболее неприятная личность. Мало того, что это, грубо говоря, дурак, который знает из «Энеиды» два стиха и в конце письма может поставить «vale», что современный школьник интерпретирует как обращение к некоей Валентине, потому что он и этого не знает.
Евгений Онегин – «ученый малый, но педант» именно потому, что он может потолковать о Ювенале, которого сроду не читал. Евгений Онегин не может дочитать до конца ни одной книги и «полку с пыльной их семьей» задергивает «траурной тафтой». «Труд упорный» литературный ему тошен. «И ничего не вышло из пера его».
Более того, это хладнокровный убийца, который убивает Ленского единственно из страха перед совершенным ничтожеством – «вмешался старый дуэлист; // Он зол, он сплетник, он речист», но если он такая дрянь, то почему же ты так его боишься? Тем не менее страх перед ним оказывается сильнее любых нравственных тормозов, и, как совершенно справедливо на этот раз замечает Писарев, из этого мы видим, что Онегин – человек безнадежно пустой и совершенно ничтожный.
Я уж не говорю о том, как он поговорил с Татьяной, «очень мило поступил с печальной Таней наш приятель», замечает автор, и трудно не понять этой авторской ремарки.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22098121&lfrom=201587221) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.