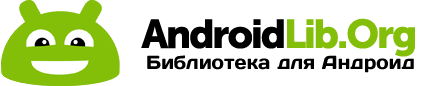AndroidLib » Читалка
Курсы
Курсы
Варлам Тихонович Шаламов
Варлама Шаламова справедливо называют большим художником, автором глубокой психологической и философской прозы.
Написанное Шаламовым – это страшный документ эпохи, беспощадная правда о пройденных им кругах ада.
Рассказ входит в авторский сборник «Артист лопаты».
Варлам Шаламов
Курсы
РАНЬШЕ ВСЕГО:
Человек не любит вспоминать плохое. Это свойство людской натуры делает жизнь легче. Проверьте себя. Ваша память стремится удержать хорошее, светлое и забыть тяжелое, черное. При тяжелых условиях жизни не завязывается никакая дружба. Память вовсе не безразлично «выдает» все прошлое подряд. Нет, она выбирает такое, с чем радостнее, легче жить. Это – как бы защитная реакция организма. Это свойство человеческой натуры, по существу, есть искажение истины. Но что есть истина?
Из многих лет моей колымской жизни лучшее время – месяцы ученья на фельдшерских курсах при лагерной больнице близ Магадана. Такого же мнения держатся все заключенные, побывавшие хоть месяц-два на двадцать третьем километре Магаданской трассы.
Курсанты съезжались со всех концов Колымы – с севера и с юга, с запада и с юго-запада. Самый южный юг был много севернее того поселка на побережье, куда они приехали.
Курсанты из дальних управлений старались занять нижние нары – не потому, что наступала весна, а из-за недержания мочи, которое было почти у каждого «горного» заключенного. Темные пятна давних отморожений на щеках были похожи на казенное тавро, на печать, которой их клеймила Колыма. На лицах провинциалов была одна и та же угрюмая улыбка недоверия, затаенной злобы. Все «горняки» чуть прихрамывали – они побывали близ полюса холода, достигали полюса голода. Командировка на фельдшерские курсы была недобрым приключением. Каждому казалось, будто он – мышь, полумертвая мышь, которую кошка-судьба выпустила из когтей и собирается поиграть немножко. Ну что ж мыши тоже ничего не имеют против такой игры – пусть знает это кошка.
Провинциалы жадно докуривали махорочные цигарки «пижонов» – кидаться, чтоб подобрать окурок, на глазах у всех они все же не решались, хотя для золотых приисков и оловянных рудников открытая охота за «бычками» была поведением, вполне достойным истинного лагерника. И только видя, что кругом никого нет, провинциал быстро хватал окурок и совал в карман, расплющив его у себя в кулаке, чтобы потом на досуге свернуть «самостоятельную» папиросу. Многие «пижоны», прибывшие недавно из-за моря – с парохода, с этапа, сохраняли вольную рубашку, галстук, кепку.
Женька Кац поминутно доставал из кармана крошечное солдатское зеркальце и осторожно причесывал свои густые кудри ломаным гребешком. Стриженным наголо провинциалам поведение Каца казалось фатовством, но замечаний ему не делали, «жить не учили» – это запрещено неписаным законом лагерей.
Курсантов разместили в чистеньком бараке вагонного типа – то есть с двухэтажными нарами с отдельным местом для каждого. Говорят, что такие нары гигиеничней и притом ласкают глаз начальства – как же: каждому отдельное место. Но вшивые ветераны, прибывшие из дальних мест, знали, что мяса на их костях недостаточно, чтобы согреться в одиночку, а борьба со вшами одинаково трудна и при вагонных, и при сплошных нарах. Провинциалы с грустью вспоминали сплошные нары дальних таежных бараков, вонь и душный уют пересылок.
Кормили курсантов в столовой, где питалась обслуга больницы. Обеды были много гуще приисковых. «Горняки» подходили за добавкой – им давали. Подходили второй раз – опять повар спокойно наполнял протянутую в окно миску. На приисках так никогда не бывало. Мысли медленно двигались по опустевшему мозгу, и решение созревало все яснее, все категоричнее – нужно было во что бы то ни стало остаться на этих курсах, стать «студентом», сделать, чтоб и завтрашний день был похож на сегодняшний. Завтрашний день – это завтрашний день буквально. Никто не думал о фельдшерской работе, о медицинской квалификации. О таком далеком загадывать боялись. Нет, только завтрашний день с такими же щами на обед, с вареной камбалой, с пшенной кашей на ужин, с затихающей болью остеомиелитов, упрятанных в рваные портянки, сунутые в ватные самодельные бурки.
Курсанты изнемогали от слухов, один другого тревожнее, от лагерных «параш». То говорят, что к экзаменам не будут допущены заключенные старше тридцати лет, сорока лет. В бараке будущих курсантов были люди и девятнадцати, и пятидесяти лет. То говорят, что курсы не будут открывать вовсе – раздумали, средств нет, и завтра же курсантов пошлют на общие работы, и самое страшное – возвратят на прежнее место жительства, на золотые прииски и оловянные рудники.
И верно, на следующий день курсантов подняли в шесть часов утра, выстроили у вахты и повели километров за десять – ровнять дорогу. Лесная работа дорожника, о которой мечтал всякий приисковый заключенный, здесь показалась всем необыкновенно тяжелой, оскорбительной, несправедливой. Курсанты «наработали» так, что на следующий день их уже не посылали.
Был слух, что начальник запретил совместное обучение мужчин и женщин. Что статью пятьдесят восьмую, пункт десять (антисоветская агитация), доселе признаваемую вполне «бытовой» статьей, не будут допускать к экзаменам. К экзаменам! Вот главное слово. Ведь должны быть приемные экзамены. Последние приемные экзамены моей жизни были экзамены в университет. Это было очень, очень давно. Я ничего не мог припомнить. Клетки мозга не тренировались целый ряд лет, клетки мозга голодали и утратили навсегда способность поглощения и выдачи знаний. Экзамен! Я спал беспокойным сном. Я не мог найти никакого решения. Экзамен «в объеме семи классов». Это было невероятно. Это вовсе не вязалось и с работой на воле, и с жизнью в заключении. Экзамен!
К счастью, первый экзамен был по русскому языку. Диктант – страницу из Тургенева – прочитал нам местный знаток русской словесности – фельдшер из заключенных Борский. Диктант был удостоен Борским высшей отметки, и я был освобожден от устного зачета по русскому языку. Ровно двадцать лет назад в актовом зале Московского университета писал я письменную работу – приемный экзамен – и был освобожден от сдачи устных испытаний. История повторяется один раз как трагедия, другой раз как фарс. Назвать фарсом мой случай было нельзя.
Медленно, с ощущением физической боли, перебирал я клетки памяти что-то важное, интересное должно было мне открыться. Вместе с радостью первого успеха пришла радость припоминания – я давно забыл свою жизнь, забыл университет.
Следующим экзаменом была математика – письменная работа. Я, неожиданно для себя, быстро решил задачу, предложенную на экзамене. Нервная собранность уже сказывалась, остатки сил мобилизовались и чудесным, необъяснимым путем выдали нужное решение. За час до экзамена и через час после экзамена я не решил бы такой задачи.
Во всевозможных учебных заведениях существует обязательный экзаменационный предмет «Конституция СССР». Однако, учитывая «контингент», начальники из КВО управления лагеря вовсе сняли сей скользкий предмет, к общему удовольствию.
Третьим предметом была химия. Экзамен принимал бывший кандидат химических наук, бывший научный сотрудник Украинской академии наук А. И. Бойченко – нынешний заведующий больничной лабораторией, самолюбивый остряк и педант. Но дело было не в человеческих качествах Бойченко. Химия для меня была предметом непосильным по-особому. Химию проходят в средней школе. Моя средняя школа приходится на годы гражданской войны. Случилось так, что школьный преподаватель химии Соколов, бывший офицер, был расстрелян во время ликвидации заговора Нуланса в Вологде, и я навек остался без химии. Я не знал – из чего состоит воздух, а формулу воды помнил лишь по старинной студенческой песне:
Сапоги мои «тово»
Пропускают Н
О.
Последующие годы показали, что жить можно и без химии, – и я стал забывать о всей этой истории – как вдруг на сороковом году моей жизни оказалось, что требуется знание химии – и именно по программе средней школы.
Как я, написавший в анкете – образование законченное среднее, незаконченное высшее, объясню Бойченко, что вот только химии я не изучал?
Я ни к кому не обращался за помощью – ни к товарищам, ни к начальству жизнь моя, тюремная и лагерная, приучила полагаться только на себя. Началась «химия». Я помню весь этот экзамен и по сей день.
– Что такое окислы и кислоты?
Я начал объяснять что-то путаное и неверное. Я мог ему рассказать о бегстве Ломоносова в Москву, о расстреле откупщика Лавуазье, но окислы…
– Скажите мне формулу извести…
– Не знаю.
– А формулу соды?
– Не знаю.
– Зачем же вы пришли на экзамен? Я ведь записываю вопросы и ответы в протокол.
Я молчал. Но Бойченко был немолод, он понимал кое-что. Недовольно он вгляделся в список моих предыдущих отметок: две пятерки. Он пожал плечами.
– Напишите знак кислорода.
Я написал букву «Н» большое.
– Что вы знаете о периодической системе элементов Менделеева?
Я рассказал. В рассказе моем было мало «химического» и много Менделеева. О Менделееве я кое-что знал. Как же – ведь он был отцом жены Блока!
– Идите, – сказал Бойченко.
Назавтра я узнал, что получил тройку по химии и зачислен, зачислен, зачислен на фельдшерские курсы при центральной больнице Управления северо-восточных лагерей НКВД.
Я ничего не делал два следующие дня: лежал на койке, дышал барачной вонью и смотрел в прокопченный потолок. Начинался очень важный, необычайно важный период моей жизни. Я ощущал это всем своим существом. Я вступал на дорогу, которая могла спасти меня. Нужно было готовиться не к смерти, а к жизни. И я не знал, что труднее.
Нам выдали бумагу – огромные листы, обгорелые с краев – след прошлогоднего пожара от взрыва, уничтожившего весь город Находку. Из этой бумаги мы сшили тетради. Нам. выдали карандаши и перья.
Шестнадцать мужчин и восемь женщин! Женщины сидели в левой части класса, поближе к свету, мужчины – справа, где потемнее. Коридор в метр шириной разделял класс. У нас были новенькие узкие столы с нижней полочкой. Я и в средней школе учился на таких точно столах.
Позднее мне случилось попасть в рыбацкий поселок Олу – около Ольской эвенкской школы стояла парта, и я долго разглядывал загадочную конструкцию, пока наконец не сообразил, что это такое – парта Эрисмана.
Учебников у нас не было никаких, а из наглядных пособий – несколько плакатов по анатомии.
Научиться было геройством, а научить – подвигом.
Сначала о героях. Никто из нас – ни женщины, ни мужчины – не думал стать фельдшером для того, чтобы пожить в лагере без забот, поскорей превратиться в «лепилу».
Для некоторых – и меня в том числе – курсы были спасением жизни. И хотя мне было под сорок лет, я выкладывался полностью и занимался на пределе сил и физических, и душевных. Кроме того, я рассчитывал кое-кому помочь, а кое с кем свести счеты десятилетней давности. Я надеялся снова стать человеком.
Для других курсы давали профессию на всю жизнь, расширяли кругозор, имели немалое общеобразовательное значение, сулили твердое общественное положение в лагере.
За первым столом на первом месте от прохода сидел Мин Гарипович Шабаев – татарский писатель Мин Шабай, осужденный по статье «аса», жертва тридцать седьмого года.
Русским языком Шабаев владел хорошо, записывал лекции по-русски, хотя, как я выяснил через много лет, писал он прозу на татарском языке. В лагере многие скрывают свое прошлое. Это объяснимо и логично не только для бывших следователей и прокуроров. Писатель, как интеллигент, как человек умственного труда, «очкарик», в местах заключения всегда вызывает ненависть и у товарищей, и у начальства. Шабаев понял это давно, выдавая себя за торгового работника, и в разговоры о литературе не вмешивался – так было лучше всего, спокойней всего, по его мнению. Он всем улыбался и вечно что-то жевал. Одним из первых курсантов он начал приобретать отечный вид, опухать, приисковые годы не прошли даром для Мина Гариповича. От курсов он был в полном восхищении.
– Понимаешь, мне сорок лет, и я впервые узнал, что печень-то у человека одна. Я думал – две, всего ведь по два.
Наличие у человека селезенки приводило Мина Гариповича в полный восторг.
После освобождения Мин Гарипович не стал работать фельдшером, а вернулся на милую его сердцу снабженческую работу. Стать агентом снабжения перспектива еще более ослепляющая, чем медицинская карьера.
Рядом с Шабаевым сидел Бокис – огромных размеров латыш, будущий чемпион Колымы по пинг-понгу. В больнице он «приземлился» уже не один год, сначала как больной, потом как санитар из больных. Врачи обещали и устроили Бокису диплом. Уже с фельдшерским дипломом Бокис выехал в тайгу, увидел золотые прииски. Тайга была для него страшным призраком, но боялся он в ней не того, чего нужно бояться, – растления собственной души. Равнодушие – это еще не подлость.
Третьим сидел Бука – одноглазый солдат второй мировой войны, осужденный за мародерство. Прииск в три месяца выбросил Буку обратно – на больничную койку. Семилетнее образование Буки, покладистый характер, украинская хитреца – все это сложилось вместе, и Бука был принят на курсы. Одним глазом Бука увидел на прииске не меньше, чем многие видят двумя; самое главное увидел что свою судьбу можно строить в стороне от пятьдесят восьмой статьи и множества ее разновидностей. На курсах не было человека скрытнее Буки.
Месяца через два Бука заменил черную повязку искусственным глазом. Только в больничном наборе не оказалось карих глаз, и пришлось взять голубой. Впечатление было сильное, но скоро все привыкли – раньше, чем сам Бука, к разноцветным Букиным глазам. Я пытался утешить Буку рассказом о глазах Александра Македонского, Бука вежливо меня выслушал, – глаза Александра Македонского были чем-то вроде «политики» – Бука промычал нечто неопределенное и отошел в сторону.
Четвертым в углу у стены сидел Лабутов, как и Бука – солдат мировой войны. Радист, человек бойкий, самолюбивый, он изготовил миниатюрный приемник, по которому слушал фашистское радио. Рассказал товарищу, был изобличен. Трибунал дал ему десять лет по «аса». Лабутов имел десятилетнее образование, любил вычерчивать всяческие схемы наподобие штабных карт огромного размера, со стрелками, знаками, с названием занятия, скажем, по анатомии – «Операция», «Сердце». Колымы он не знал. В тот весенний день, когда нас выгнали на работу, Лабутов вздумал выкупаться в ближайшей канаве, и мы с трудом удержали его. Фельдшер вышел из него хороший, особенно позднее, когда он постиг тайны физиотерапии, что для него как электрика и радиста было нетрудно, и укрепился на постоянную работу в кабинет электролечения.
Во втором ряду сидели Черников, Кац и Малинский. Черников был самодовольный, вечно улыбающийся мальчик – тоже фронтовик, осужденный по какой-то уголовной статье. Он и не нюхал Колымы, на курсы поступил из Маглага – из городского лагерного отделения. Грамотный достаточно, чтобы учиться, он справедливо полагал, что с курсов его не выгонят, если будут и нарушения, быстро сошелся с одной из курсанток.
Женька Кац, приятель Черникова, был бойкий «бытовичок», чрезвычайно дорожащий своими пышными кудрями. Как староста курсов – был незлобив и не имел никакого авторитета. Уже после окончания курсов, работая на амбулаторном приеме, услышав от врача, осматривающего больного: «Марганцу!» – Женька положил на рану не марлю, смоченную слабым раствором «калиум гипермарганикум», а засыпал рану темно-фиолетовыми кристалликами марганца. Больной, прекрасно знавший, как лечат ожоги, не отвел руки, не запротестовал, не моргнул глазом. Это был старый колымчанин. Небрежность Женьки Каца освободила его от работы чуть не на месяц. На Колыме удача бывает редко. Ее надо хватать крепко и держать, пока есть силы.
Малинский был моложе всех в классе. Ему было девятнадцать лет призывник последнего года войны, воспитанный в военное время, с моралью нетвердой, Костя Малинский был осужден за мародерство. Случай привел его в больницу, где одним из врачей работал его дядя – московский терапевт. Дядя помог ему устроиться на курсы. Курсы Костю интересовали мало. Порочная его природа, а может быть, просто молодость постоянно толкала его на разные лагерные авантюры: получение масла по поддельному талону, продажа обуви, поездка в Магадан. У него вечно были объяснения по этой части (только ли по этой?) у уполномоченных. Кто-то ведь должен был быть осведомителем.
Курсы дали Косте профессию. Через несколько лет я встретился с ним в поселке Ола. Костя выдавал там себя за фельдшера, окончившего двухлетние курсы военного времени, и я невольно мог быть причиной разоблачения лжи.
В 1957 году я ехал с Костей в одном автобусе в Москве – велюровая шляпа, мягкое пальто.
– Что ты делаешь?
– По медицине, по медицине пошел, – кричал мне Костя на прощанье.
Остальные курсанты были люди из горных управлений, люди другой судьбы.
Орлов был «литерка», осужденный по литерной статье, то есть «тройками», или Особым совещанием.
Московский механик Орлов доплывал на приисках трижды. Как шлак, колымская машина выбросила его в местную больницу, и оттуда он попал на курсы. Ставкой была жизнь. Орлов ничего не знал, кроме занятий, как ни бесконечно трудно давалась ему медицина. Постепенно он втянулся в занятия, поверил в свое будущее.
Учитель средней школы, географ Суховенченко был старше Орлова – ему было за сорок лет. В заключении он был около восьми лет из десяти оставалось уже немного. Притом Суховенченко был из тех, кто уцелел, укрепился – он уже имел спокойную работу и мог выжить. Он отбыл стаж доходяги и остался в живых. Он работал геологом, коллектором, помощником начальника партии. Но все это благо могло внезапно исчезнуть как дым достаточно было сменить начальника – у Суховенченко ведь не было диплома. А память о приисковых годах была слишком свежа. Возможность получить путевку на курсы была. Курсы предполагались восьмимесячные – до окончания срока осталось бы совсем немного. Была бы приобретена хорошая лагерная профессия. Суховенченко бросил геологическую партию и получил фельдшерское образование. Но медика из него не вышло – то ли года были не те, то ли качества души иные. Окончив курсы, Суховенченко почувствовал, что не может лечить, не имеет силы воли для решения. Перед ним были живые люди, а не камни для коллекций. Поработав немного фельдшером, Суховенченко вернулся к профессии геолога. Стало быть, он был из тех, кого зря учили. Порядочность, доброта его были вне всякого сомнения. «Политики» он боялся как огня, но доносить не пошел бы.
У Силайкина не было семи классов, человек он был уже пожилой, учиться было очень трудно. Если Кундуш, Орлов, я с каждым днем чувствовали себя все увереннее, Силайкину было все труднее. Но он продолжал учиться, рассчитывая на свою память, память у него превосходная, на свое уменье ловчить и не только ловчить, но и понимать людей. По наблюдениям Силайкина, преступников вовсе нет, кроме блатарей. Все прочие заключенные вели себя на воле так, как все другие – столько же воровали у государства, столько же ошибались, столько же нарушали закон, как и те, кто не был осужден по статьям Уголовного кодекса и продолжал заниматься каждый своей работой. Тридцать седьмой год подчеркнул это с особой силой – уничтожив всякую правовую гарантию у русских людей. Тюрьму стало никак не обойти, никому не обойти.
Варлам Тихонович Шаламов
Варлама Шаламова справедливо называют большим художником, автором глубокой психологической и философской прозы.
Написанное Шаламовым – это страшный документ эпохи, беспощадная правда о пройденных им кругах ада.
Рассказ входит в авторский сборник «Артист лопаты».
Варлам Шаламов
Курсы
РАНЬШЕ ВСЕГО:
Человек не любит вспоминать плохое. Это свойство людской натуры делает жизнь легче. Проверьте себя. Ваша память стремится удержать хорошее, светлое и забыть тяжелое, черное. При тяжелых условиях жизни не завязывается никакая дружба. Память вовсе не безразлично «выдает» все прошлое подряд. Нет, она выбирает такое, с чем радостнее, легче жить. Это – как бы защитная реакция организма. Это свойство человеческой натуры, по существу, есть искажение истины. Но что есть истина?
Из многих лет моей колымской жизни лучшее время – месяцы ученья на фельдшерских курсах при лагерной больнице близ Магадана. Такого же мнения держатся все заключенные, побывавшие хоть месяц-два на двадцать третьем километре Магаданской трассы.
Курсанты съезжались со всех концов Колымы – с севера и с юга, с запада и с юго-запада. Самый южный юг был много севернее того поселка на побережье, куда они приехали.
Курсанты из дальних управлений старались занять нижние нары – не потому, что наступала весна, а из-за недержания мочи, которое было почти у каждого «горного» заключенного. Темные пятна давних отморожений на щеках были похожи на казенное тавро, на печать, которой их клеймила Колыма. На лицах провинциалов была одна и та же угрюмая улыбка недоверия, затаенной злобы. Все «горняки» чуть прихрамывали – они побывали близ полюса холода, достигали полюса голода. Командировка на фельдшерские курсы была недобрым приключением. Каждому казалось, будто он – мышь, полумертвая мышь, которую кошка-судьба выпустила из когтей и собирается поиграть немножко. Ну что ж мыши тоже ничего не имеют против такой игры – пусть знает это кошка.
Провинциалы жадно докуривали махорочные цигарки «пижонов» – кидаться, чтоб подобрать окурок, на глазах у всех они все же не решались, хотя для золотых приисков и оловянных рудников открытая охота за «бычками» была поведением, вполне достойным истинного лагерника. И только видя, что кругом никого нет, провинциал быстро хватал окурок и совал в карман, расплющив его у себя в кулаке, чтобы потом на досуге свернуть «самостоятельную» папиросу. Многие «пижоны», прибывшие недавно из-за моря – с парохода, с этапа, сохраняли вольную рубашку, галстук, кепку.
Женька Кац поминутно доставал из кармана крошечное солдатское зеркальце и осторожно причесывал свои густые кудри ломаным гребешком. Стриженным наголо провинциалам поведение Каца казалось фатовством, но замечаний ему не делали, «жить не учили» – это запрещено неписаным законом лагерей.
Курсантов разместили в чистеньком бараке вагонного типа – то есть с двухэтажными нарами с отдельным местом для каждого. Говорят, что такие нары гигиеничней и притом ласкают глаз начальства – как же: каждому отдельное место. Но вшивые ветераны, прибывшие из дальних мест, знали, что мяса на их костях недостаточно, чтобы согреться в одиночку, а борьба со вшами одинаково трудна и при вагонных, и при сплошных нарах. Провинциалы с грустью вспоминали сплошные нары дальних таежных бараков, вонь и душный уют пересылок.
Кормили курсантов в столовой, где питалась обслуга больницы. Обеды были много гуще приисковых. «Горняки» подходили за добавкой – им давали. Подходили второй раз – опять повар спокойно наполнял протянутую в окно миску. На приисках так никогда не бывало. Мысли медленно двигались по опустевшему мозгу, и решение созревало все яснее, все категоричнее – нужно было во что бы то ни стало остаться на этих курсах, стать «студентом», сделать, чтоб и завтрашний день был похож на сегодняшний. Завтрашний день – это завтрашний день буквально. Никто не думал о фельдшерской работе, о медицинской квалификации. О таком далеком загадывать боялись. Нет, только завтрашний день с такими же щами на обед, с вареной камбалой, с пшенной кашей на ужин, с затихающей болью остеомиелитов, упрятанных в рваные портянки, сунутые в ватные самодельные бурки.
Курсанты изнемогали от слухов, один другого тревожнее, от лагерных «параш». То говорят, что к экзаменам не будут допущены заключенные старше тридцати лет, сорока лет. В бараке будущих курсантов были люди и девятнадцати, и пятидесяти лет. То говорят, что курсы не будут открывать вовсе – раздумали, средств нет, и завтра же курсантов пошлют на общие работы, и самое страшное – возвратят на прежнее место жительства, на золотые прииски и оловянные рудники.
И верно, на следующий день курсантов подняли в шесть часов утра, выстроили у вахты и повели километров за десять – ровнять дорогу. Лесная работа дорожника, о которой мечтал всякий приисковый заключенный, здесь показалась всем необыкновенно тяжелой, оскорбительной, несправедливой. Курсанты «наработали» так, что на следующий день их уже не посылали.
Был слух, что начальник запретил совместное обучение мужчин и женщин. Что статью пятьдесят восьмую, пункт десять (антисоветская агитация), доселе признаваемую вполне «бытовой» статьей, не будут допускать к экзаменам. К экзаменам! Вот главное слово. Ведь должны быть приемные экзамены. Последние приемные экзамены моей жизни были экзамены в университет. Это было очень, очень давно. Я ничего не мог припомнить. Клетки мозга не тренировались целый ряд лет, клетки мозга голодали и утратили навсегда способность поглощения и выдачи знаний. Экзамен! Я спал беспокойным сном. Я не мог найти никакого решения. Экзамен «в объеме семи классов». Это было невероятно. Это вовсе не вязалось и с работой на воле, и с жизнью в заключении. Экзамен!
К счастью, первый экзамен был по русскому языку. Диктант – страницу из Тургенева – прочитал нам местный знаток русской словесности – фельдшер из заключенных Борский. Диктант был удостоен Борским высшей отметки, и я был освобожден от устного зачета по русскому языку. Ровно двадцать лет назад в актовом зале Московского университета писал я письменную работу – приемный экзамен – и был освобожден от сдачи устных испытаний. История повторяется один раз как трагедия, другой раз как фарс. Назвать фарсом мой случай было нельзя.
Медленно, с ощущением физической боли, перебирал я клетки памяти что-то важное, интересное должно было мне открыться. Вместе с радостью первого успеха пришла радость припоминания – я давно забыл свою жизнь, забыл университет.
Следующим экзаменом была математика – письменная работа. Я, неожиданно для себя, быстро решил задачу, предложенную на экзамене. Нервная собранность уже сказывалась, остатки сил мобилизовались и чудесным, необъяснимым путем выдали нужное решение. За час до экзамена и через час после экзамена я не решил бы такой задачи.
Во всевозможных учебных заведениях существует обязательный экзаменационный предмет «Конституция СССР». Однако, учитывая «контингент», начальники из КВО управления лагеря вовсе сняли сей скользкий предмет, к общему удовольствию.
Третьим предметом была химия. Экзамен принимал бывший кандидат химических наук, бывший научный сотрудник Украинской академии наук А. И. Бойченко – нынешний заведующий больничной лабораторией, самолюбивый остряк и педант. Но дело было не в человеческих качествах Бойченко. Химия для меня была предметом непосильным по-особому. Химию проходят в средней школе. Моя средняя школа приходится на годы гражданской войны. Случилось так, что школьный преподаватель химии Соколов, бывший офицер, был расстрелян во время ликвидации заговора Нуланса в Вологде, и я навек остался без химии. Я не знал – из чего состоит воздух, а формулу воды помнил лишь по старинной студенческой песне:
Сапоги мои «тово»
Пропускают Н
О.
Последующие годы показали, что жить можно и без химии, – и я стал забывать о всей этой истории – как вдруг на сороковом году моей жизни оказалось, что требуется знание химии – и именно по программе средней школы.
Как я, написавший в анкете – образование законченное среднее, незаконченное высшее, объясню Бойченко, что вот только химии я не изучал?
Я ни к кому не обращался за помощью – ни к товарищам, ни к начальству жизнь моя, тюремная и лагерная, приучила полагаться только на себя. Началась «химия». Я помню весь этот экзамен и по сей день.
– Что такое окислы и кислоты?
Я начал объяснять что-то путаное и неверное. Я мог ему рассказать о бегстве Ломоносова в Москву, о расстреле откупщика Лавуазье, но окислы…
– Скажите мне формулу извести…
– Не знаю.
– А формулу соды?
– Не знаю.
– Зачем же вы пришли на экзамен? Я ведь записываю вопросы и ответы в протокол.
Я молчал. Но Бойченко был немолод, он понимал кое-что. Недовольно он вгляделся в список моих предыдущих отметок: две пятерки. Он пожал плечами.
– Напишите знак кислорода.
Я написал букву «Н» большое.
– Что вы знаете о периодической системе элементов Менделеева?
Я рассказал. В рассказе моем было мало «химического» и много Менделеева. О Менделееве я кое-что знал. Как же – ведь он был отцом жены Блока!
– Идите, – сказал Бойченко.
Назавтра я узнал, что получил тройку по химии и зачислен, зачислен, зачислен на фельдшерские курсы при центральной больнице Управления северо-восточных лагерей НКВД.
Я ничего не делал два следующие дня: лежал на койке, дышал барачной вонью и смотрел в прокопченный потолок. Начинался очень важный, необычайно важный период моей жизни. Я ощущал это всем своим существом. Я вступал на дорогу, которая могла спасти меня. Нужно было готовиться не к смерти, а к жизни. И я не знал, что труднее.
Нам выдали бумагу – огромные листы, обгорелые с краев – след прошлогоднего пожара от взрыва, уничтожившего весь город Находку. Из этой бумаги мы сшили тетради. Нам. выдали карандаши и перья.
Шестнадцать мужчин и восемь женщин! Женщины сидели в левой части класса, поближе к свету, мужчины – справа, где потемнее. Коридор в метр шириной разделял класс. У нас были новенькие узкие столы с нижней полочкой. Я и в средней школе учился на таких точно столах.
Позднее мне случилось попасть в рыбацкий поселок Олу – около Ольской эвенкской школы стояла парта, и я долго разглядывал загадочную конструкцию, пока наконец не сообразил, что это такое – парта Эрисмана.
Учебников у нас не было никаких, а из наглядных пособий – несколько плакатов по анатомии.
Научиться было геройством, а научить – подвигом.
Сначала о героях. Никто из нас – ни женщины, ни мужчины – не думал стать фельдшером для того, чтобы пожить в лагере без забот, поскорей превратиться в «лепилу».
Для некоторых – и меня в том числе – курсы были спасением жизни. И хотя мне было под сорок лет, я выкладывался полностью и занимался на пределе сил и физических, и душевных. Кроме того, я рассчитывал кое-кому помочь, а кое с кем свести счеты десятилетней давности. Я надеялся снова стать человеком.
Для других курсы давали профессию на всю жизнь, расширяли кругозор, имели немалое общеобразовательное значение, сулили твердое общественное положение в лагере.
За первым столом на первом месте от прохода сидел Мин Гарипович Шабаев – татарский писатель Мин Шабай, осужденный по статье «аса», жертва тридцать седьмого года.
Русским языком Шабаев владел хорошо, записывал лекции по-русски, хотя, как я выяснил через много лет, писал он прозу на татарском языке. В лагере многие скрывают свое прошлое. Это объяснимо и логично не только для бывших следователей и прокуроров. Писатель, как интеллигент, как человек умственного труда, «очкарик», в местах заключения всегда вызывает ненависть и у товарищей, и у начальства. Шабаев понял это давно, выдавая себя за торгового работника, и в разговоры о литературе не вмешивался – так было лучше всего, спокойней всего, по его мнению. Он всем улыбался и вечно что-то жевал. Одним из первых курсантов он начал приобретать отечный вид, опухать, приисковые годы не прошли даром для Мина Гариповича. От курсов он был в полном восхищении.
– Понимаешь, мне сорок лет, и я впервые узнал, что печень-то у человека одна. Я думал – две, всего ведь по два.
Наличие у человека селезенки приводило Мина Гариповича в полный восторг.
После освобождения Мин Гарипович не стал работать фельдшером, а вернулся на милую его сердцу снабженческую работу. Стать агентом снабжения перспектива еще более ослепляющая, чем медицинская карьера.
Рядом с Шабаевым сидел Бокис – огромных размеров латыш, будущий чемпион Колымы по пинг-понгу. В больнице он «приземлился» уже не один год, сначала как больной, потом как санитар из больных. Врачи обещали и устроили Бокису диплом. Уже с фельдшерским дипломом Бокис выехал в тайгу, увидел золотые прииски. Тайга была для него страшным призраком, но боялся он в ней не того, чего нужно бояться, – растления собственной души. Равнодушие – это еще не подлость.
Третьим сидел Бука – одноглазый солдат второй мировой войны, осужденный за мародерство. Прииск в три месяца выбросил Буку обратно – на больничную койку. Семилетнее образование Буки, покладистый характер, украинская хитреца – все это сложилось вместе, и Бука был принят на курсы. Одним глазом Бука увидел на прииске не меньше, чем многие видят двумя; самое главное увидел что свою судьбу можно строить в стороне от пятьдесят восьмой статьи и множества ее разновидностей. На курсах не было человека скрытнее Буки.
Месяца через два Бука заменил черную повязку искусственным глазом. Только в больничном наборе не оказалось карих глаз, и пришлось взять голубой. Впечатление было сильное, но скоро все привыкли – раньше, чем сам Бука, к разноцветным Букиным глазам. Я пытался утешить Буку рассказом о глазах Александра Македонского, Бука вежливо меня выслушал, – глаза Александра Македонского были чем-то вроде «политики» – Бука промычал нечто неопределенное и отошел в сторону.
Четвертым в углу у стены сидел Лабутов, как и Бука – солдат мировой войны. Радист, человек бойкий, самолюбивый, он изготовил миниатюрный приемник, по которому слушал фашистское радио. Рассказал товарищу, был изобличен. Трибунал дал ему десять лет по «аса». Лабутов имел десятилетнее образование, любил вычерчивать всяческие схемы наподобие штабных карт огромного размера, со стрелками, знаками, с названием занятия, скажем, по анатомии – «Операция», «Сердце». Колымы он не знал. В тот весенний день, когда нас выгнали на работу, Лабутов вздумал выкупаться в ближайшей канаве, и мы с трудом удержали его. Фельдшер вышел из него хороший, особенно позднее, когда он постиг тайны физиотерапии, что для него как электрика и радиста было нетрудно, и укрепился на постоянную работу в кабинет электролечения.
Во втором ряду сидели Черников, Кац и Малинский. Черников был самодовольный, вечно улыбающийся мальчик – тоже фронтовик, осужденный по какой-то уголовной статье. Он и не нюхал Колымы, на курсы поступил из Маглага – из городского лагерного отделения. Грамотный достаточно, чтобы учиться, он справедливо полагал, что с курсов его не выгонят, если будут и нарушения, быстро сошелся с одной из курсанток.
Женька Кац, приятель Черникова, был бойкий «бытовичок», чрезвычайно дорожащий своими пышными кудрями. Как староста курсов – был незлобив и не имел никакого авторитета. Уже после окончания курсов, работая на амбулаторном приеме, услышав от врача, осматривающего больного: «Марганцу!» – Женька положил на рану не марлю, смоченную слабым раствором «калиум гипермарганикум», а засыпал рану темно-фиолетовыми кристалликами марганца. Больной, прекрасно знавший, как лечат ожоги, не отвел руки, не запротестовал, не моргнул глазом. Это был старый колымчанин. Небрежность Женьки Каца освободила его от работы чуть не на месяц. На Колыме удача бывает редко. Ее надо хватать крепко и держать, пока есть силы.
Малинский был моложе всех в классе. Ему было девятнадцать лет призывник последнего года войны, воспитанный в военное время, с моралью нетвердой, Костя Малинский был осужден за мародерство. Случай привел его в больницу, где одним из врачей работал его дядя – московский терапевт. Дядя помог ему устроиться на курсы. Курсы Костю интересовали мало. Порочная его природа, а может быть, просто молодость постоянно толкала его на разные лагерные авантюры: получение масла по поддельному талону, продажа обуви, поездка в Магадан. У него вечно были объяснения по этой части (только ли по этой?) у уполномоченных. Кто-то ведь должен был быть осведомителем.
Курсы дали Косте профессию. Через несколько лет я встретился с ним в поселке Ола. Костя выдавал там себя за фельдшера, окончившего двухлетние курсы военного времени, и я невольно мог быть причиной разоблачения лжи.
В 1957 году я ехал с Костей в одном автобусе в Москве – велюровая шляпа, мягкое пальто.
– Что ты делаешь?
– По медицине, по медицине пошел, – кричал мне Костя на прощанье.
Остальные курсанты были люди из горных управлений, люди другой судьбы.
Орлов был «литерка», осужденный по литерной статье, то есть «тройками», или Особым совещанием.
Московский механик Орлов доплывал на приисках трижды. Как шлак, колымская машина выбросила его в местную больницу, и оттуда он попал на курсы. Ставкой была жизнь. Орлов ничего не знал, кроме занятий, как ни бесконечно трудно давалась ему медицина. Постепенно он втянулся в занятия, поверил в свое будущее.
Учитель средней школы, географ Суховенченко был старше Орлова – ему было за сорок лет. В заключении он был около восьми лет из десяти оставалось уже немного. Притом Суховенченко был из тех, кто уцелел, укрепился – он уже имел спокойную работу и мог выжить. Он отбыл стаж доходяги и остался в живых. Он работал геологом, коллектором, помощником начальника партии. Но все это благо могло внезапно исчезнуть как дым достаточно было сменить начальника – у Суховенченко ведь не было диплома. А память о приисковых годах была слишком свежа. Возможность получить путевку на курсы была. Курсы предполагались восьмимесячные – до окончания срока осталось бы совсем немного. Была бы приобретена хорошая лагерная профессия. Суховенченко бросил геологическую партию и получил фельдшерское образование. Но медика из него не вышло – то ли года были не те, то ли качества души иные. Окончив курсы, Суховенченко почувствовал, что не может лечить, не имеет силы воли для решения. Перед ним были живые люди, а не камни для коллекций. Поработав немного фельдшером, Суховенченко вернулся к профессии геолога. Стало быть, он был из тех, кого зря учили. Порядочность, доброта его были вне всякого сомнения. «Политики» он боялся как огня, но доносить не пошел бы.
У Силайкина не было семи классов, человек он был уже пожилой, учиться было очень трудно. Если Кундуш, Орлов, я с каждым днем чувствовали себя все увереннее, Силайкину было все труднее. Но он продолжал учиться, рассчитывая на свою память, память у него превосходная, на свое уменье ловчить и не только ловчить, но и понимать людей. По наблюдениям Силайкина, преступников вовсе нет, кроме блатарей. Все прочие заключенные вели себя на воле так, как все другие – столько же воровали у государства, столько же ошибались, столько же нарушали закон, как и те, кто не был осужден по статьям Уголовного кодекса и продолжал заниматься каждый своей работой. Тридцать седьмой год подчеркнул это с особой силой – уничтожив всякую правовую гарантию у русских людей. Тюрьму стало никак не обойти, никому не обойти.