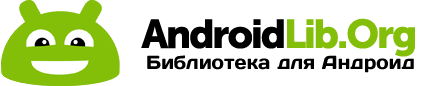AndroidLib » Читалка
Время в философском и художественном мышлении. Анри Бергсон, Клод Дебюсси, Одилон Редон
Время в философском и художественном мышлении. Анри Бергсон, Клод Дебюсси, Одилон Редон
Елена Владимировна Ровенко
В книге исследуются рецепция и интерпретация базовых онтологических категорий – времени, пространства, материи – во французской философии и искусстве (музыка и живопись) рубежа XIX–XX веков. Выявляется соответствие двух картин мира, создаваемых каждой из этих областей человеческого духа. В орбиту изучения попадают наиболее примечательные фигуры, новации которых отражают кардинальный поворот в философском и художественном мышлении, прежде всего – с точки зрения трактовки важнейшей для миропонимания рубежа столетий категории времени. Философия Анри Бергсона, музыка Клода Дебюсси, фантазии Одилона Редона вступают на страницах книги в диалог, окрашенный в онтологические тона.
Елена Ровенко
Время в философском и художественном мышлении. Анри Бергсон, Клод Дебюсси, Одилон Редон
© Е. В. Ровенко, автор, 2015
© И. С. Крушинский, оформление, 2016
© Прогресс-Традиция, 2016
Предисловие
Французская культура рубежа XIX–XX веков всегда была предметом пристального внимания и изучения в России. В книге, которую читатель держит в руках, искусство названного периода рассматривается в философском ракурсе (в аспектах онтологическом и гносеологическом). По мнению автора, становление мирового духа в принципе не может быть завершено, вопреки Гегелю. И культура – высшая сфера актуализации духа – представляет собой постоянно становящееся прошлое, никогда не обретающее абсолютной завершенности и не исчерпывающее свой смысловой потенциал, обогащающееся смыслами в настоящем и интенционально направленное в будущее. Автор, вслед за представителями школы Анналов, Шарлем Пеги, Филиппом Арьесом, стремится показать, что это становление, будучи подлинной историей бытия мирового духа, имеет эстетическую сущность.
В пределах предложенного понимания феномена истории искусство предстает индикатором мировоззренческих изменений и даже смены гносеологического вектора в общении с миром. Онтологическая структура художественных миров, созданных ярчайшими представителями той или иной эпохи, может многое сказать о понимании в этот период сущностных категорий времени, пространства, материи. Может сказать не менее ясно и впечатляюще, чем философия или, скажем, точные науки. Более того: на протяжении одной эпохи прослеживаются определенные соответствия (пользуясь бодлеровской трактовкой слова les correspondances) между интерпретацией сущностных категорий времени, пространства, материи в произведениях искусства – и интерпретацией этих же категорий в философских концепциях.
В настоящей книге выявляется специфика таких соответствий в эпоху рубежа XIX–XX столетий. Предметом изучения и материалом служат концепция Анри Бергсона и художественные миры Клода Дебюсси и Одилона Редона, людей, несомненно, примечательных, предложивших каждый в своей области новаторские решения. Очевидно, что подобного рода исследования искусства и философии, точек их соприкосновения обладают междисциплинарным характером и требуют специфического ракурса рассмотрения и особой методологии. Стоит напомнить, что сам Бергсон считал философию родом, видами которого являются разные искусства; поэтому ни онтологического, ни гносеологического диссонанса тут не должно возникнуть. Что касается методологического диссонанса, то во избежание его была предпринята попытка развить методологию самого Бергсона, предложить новые инструменты исследования, в частности, ввести в искусствоведческий обиход бергсоновские качественные категории la dure?e и e?lan vital и даже присвоить им особый статус образов-понятий (это соединение двух слов, по мнению автора, вполне может быть использовано как рабочий термин).
Причем акцент был поставлен во всех трех случаях, даже в случае с изобразительным искусством, на новаторском понимании категории времени. Не только потому, что именно в интерпретации этой категории на рубеже XIX–XX веков произошел впечатляющий скачок, но и потому, что именно эта категория неразрывно связана с феноменом жизни как таковой и с эволюцией, в том числе с историческим развитием.
Таким образом, устанавливаются переклички, в духе бодлеровских соответствий, между бергсоновской концепцией мироздания и особенностями художественных миров Дебюсси и Редона. Причем, когда речь идет об искусстве, изучаются особенности воплощения категории времени на всех уровнях бытия художественного организма, начиная от мельчайших единиц материала – и до становления формы целого. Также в орбиту рассмотрения включаются характерные черты творческого процесса и имплицитной эстетики названных мастеров.
Автор почитает своим долгом выразить самую искреннюю благодарность всем, кто помогал в работе над книгой. Прежде всего Константину Владимировичу Зенкину, в прошлом моему научному руководителю, доктору искусствоведения, профессору МГК им. П. И. Чайковского, за ценные советы и профессиональную поддержку. От души хочу поблагодарить рецензентов, потративших часы своего драгоценного времени на чтение рукописи: доктора философских наук Ирину Игоревну Блауберг, ведущего отечественного специалиста в области изучения философии Бергсона, и доктора искусствоведения Владимира Петровича Чинаева, тонкого ценителя французской культуры и поклонника творчества Редона, за рекомендации по усовершенствованию текста. Также автор выражает особую признательность Ярославу Игоревичу Станишевскому за помощь в подготовке технической части издания (нотный набор, работа с иллюстрациями и рисунками).
Часть первая: Du c?tе de chez Bergson
Глава I. «Прикасаясь к прошлому…»,
в которой говорится о том, почему дух и культура как феномены до сих пор являются актуальными для человечества смыслами; почему возвращение на столетие назад позволяет это понять; почему эволюция духа и культуры творит Историю, раскрываясь прежде всего в эстетической сфере; почему сущностные черты мышления эпохи находят воплощения в разных историко-культурных реалиях; наконец, здесь происходит знакомство с героями дальнейшего повествования, а автор пытается пригласить читателя к сопереживанию и тем самым оправдывается за написанное.
…Не заменяешь своим искусством прошлое, а только прибавляешь к нему новое звено[1 - Цит. по: Мастера искусства об искусстве. Избранные отрывки из писем, дневников, речей и трактатов / под общ. ред. А. А. Губера и др.: в 7 т. М.: Искусство, 1968. Т. 5. Кн. 1: Искусство конца XIX-начала ХХ века. С. 151. Письмо Роже Марксу из Экса, 23 января 1905 года.].
Поль Сезанн
Прикасаясь к прошлому, всегда испытываешь своего рода трепет: потому что, волей-неволей, чувствуешь соприсутствие прошлого с нашим нынешним существованием, будто прошлое здесь, глядит через плечо. Прикасаясь к прошлому культуры, испытываешь священный трепет, потому что чувствуешь присутствие духа.
Эти слова, «дух» и «культура», тесно связаны, и оба «имеют свою историю», как сказал бы Анри Бергсон – один из героев предлагаемой работы. Любопытствующим можно освоить целую библиотеку по вопросам этимологии, рецепции, интерпретации названных понятий и игры с ними – игры лингвистической, эстетической, философской; иронической и трагической; высокомерной и заинтересованно-серьезной. Но сейчас речь не об этом. В истории осмысления феноменов духа и культуры были этапы, на которых им отказывали в онтологической подлинности, объявляя чрезмерно иррациональными фантомами или, напротив, утонченными изысками интеллекта. Особенно это относится к духу. Тогда дух и культура переходили из разряда явлений в разряд умозрительных категорий, понятий, за которыми не стоит ничего, кроме удобной для разума абстракции или, наоборот, кроме измышления услужливой фантазии. На мой взгляд, и то, и другое мнение закономерно и даже онтологически достоверно, но не в том смысле, что скрывающееся за словами «дух» и «культура» отличается эфемерностью, а в том смысле, что дух и культура – не однозначно феномены и не однозначно понятия, а нечто большее. Но, поскольку нет никакой возможности так далеко уходить в сторону и давать сводку по вопросам интерпретации «духа» и «культуры», постольку главное – чтобы «нечто большее» в контексте именно этой книги имело весьма определенное смысловое поле, иначе мы с читателем не сможем понять друг друга.
Договоримся, что среди иноязычных синонимов слова «дух» наиболее точно отвечает замыслу этой книги германское слово «Geist», поскольку в его основе – «индоевропейский корень „ghei“ со значением „движущая сила“, „брожение“, „кипение“»[2 - См.: Доброхотов А. Л. Дух / А. Л. Доброхотов // Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т философии РАН, Нац. общ. – научн. фонд; Научно-ред. совет: предс. В. С. Степин, заместители предс: А. А. Гусейнов, Г. Ю. Семигин, уч. секр. А. П. Огурцов. Т. 1 / науч. ред. М. С. Ковалева, Е. И. Лакирева, Л. В. Литвинова, М. М. Новосёлов, А. П. Поляков, Ю. Н. Попов, А. К. Рябов, В. М. Смолкин. М.: Мысль, 2010. С. 707.]. Иными словами, для понимания дальнейших проблем, затронутых в данной работе, важно подчеркнуть интенциональность «духа», которая кроется именно в слове «Geist» (в отличие от смыслового поля греческого слова «??????» или латинских «spiritus» и «mens»). Отсюда вовсе не следует, что в соответствующее слово вкладывается весь комплекс смыслов, который был столь естествен для немецкого Просвещения: меня интересует именно (хотя и не исключительно) это указание на интенциональность как имманентное качество духа. Сейчас я говорю не о толковании «духа», а о тех смысловых нюансах, которые должны быть высвечены, хотя, несомненно, открытия Фихте, Гегеля и Шеллинга в сущностном понимании «духа» тут приходятся как нельзя кстати. Мне не хотелось бы, чтобы читатель почувствовал скрытое противоречие между французской культурой как предметом исследования в этой книге – и немецко-центристским ориентиром для одной из ключевых философских и культурологических категорий. Дело в том, что, как мне кажется, в наше время плюрализма ориентиров (этических, эстетических…) мы, хорошо это или нет, имеем богатый аксиологический выбор: какой идеал воскрешать и в каком искать утешения. Поэтому, в исторической ретроспективе, уже не кажется кощунственным апеллировать к тем или иным смыслам по собственному вкусу и разумению, – лишь бы эти вкус и разумение вели к определенной цели. Как увидит читатель очень скоро, такая цель у автора существует, и она вполне ясна. Да и, в конце концов, повторюсь, для меня более всего важны те значения, которые несет имя «духа», и это имя именно в германском варианте («Geist») отвечает моим устремлениям. А все то, что стоит за этим именем и отчасти содержится как тенденция в нем, – все это «вычитывается» каждой эпохой на свой лад, и в наше время, думается, вовсе не обязательно идти вслед за Гегелем (или Шеллингом) только потому, что мы осмелились воспользоваться тем же именем, что и когда-то они. Но это не дает никакого основания игнорировать смыслы, которые издавна вкладывались в слово «Geist», как и смыслы, присущие слову «Spiritus» и производным от него или слову «mens», коль скоро все эти имена относятся к одной сущности-феномену-понятию.
Что касается культуры, то мне еще меньше хотелось бы давать определения этому феномену: тут как раз тот случай, когда ясно понимаешь всю правоту Анри Бергсона и Уильяма Джеймса, говоривших об узости любых дефиниций. Нет никакой нужды приводить сто раз переписанные фразы о «сумме материальных и духовных форм организации человеческой деятельности» и т. п. Но нельзя и допускать расплывчатое «околопредметное» толкование: каждый конкретный случай, когда произносится слово «культура», требует контекстуальной интерпретации данного феномена и разнообразных коннотаций. Так вот, в контексте настоящего исследования культуру целесообразно понимать как совокупность исторических проявлений человеческого духа в их смене, развитии и притом в единстве. Или несколько иначе: культура – сущностная интенция духа времени, взятого в человеческом аспекте. Подчеркну, что это не определение, а исключительно попытка очертить тот круг значений рассматриваемого слова, который актуален для автора этой работы – ведь нет ничего хуже, чем дезориентировать читателя.
В принципе, можно принять определение В. В. Бычкова: «Под Культурой (с прописной буквы) имеются в виду исторические этапы развития духовно-практической деятельности человека (включая ее результаты), в том числе и художественно-эстетической, восходящие к культурам Древнего Востока, Древней Греции, античного Рима, которые формировались и развивались в русле религиозного (или околорелигиозного) миропонимания, ориентированного на веру в объективное бытие высшей духовной реальности (богов, духов, Первоединого, Абсолюта, Бога и т. п. – некоего Великого Другого, используя современную лексику), оказывающей воздействие на возникновение, развитие, существование жизни, в том числе и прежде всего – человеческой»[3 - Бычков В. В. Эстетика / Виктор Васильевич Бычков. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Гардарики, 2006. С. 319–320.]. Или еще лаконичнее (это уже не определение, а просто характеристика – но весьма неоднозначная в своей простоте): «Культура (с большой буквы) – это реальность в квадрате, концентрированная Реальность. Более реальная, чем обыденная реальность (или действительность)»[4 - Бычков В. В. Художественный Апокалипсис культуры. Строматы XX века. Непарадигматический гиперпроект Виктора Бычкова. Суперроман с XX веком / Виктор Васильевич Бычков. Кн. 2. М.: Культурная революция, 2008. С. 198–199.]. Мне кажется, к приведенной фразе есть что добавить. А именно: Культура – это одновременно и трансцендирование сущностных смыслов реальности (в единстве материального и духовного), и создание особой, новой реальности посредством преображения этих смыслов в акте указанного трансцендирования.
Главное для меня – взаимосвязь духа и культуры, их взаимообусловленность и взаимозависимость. Дух не может воплотиться в иной форме, чем культура, а без духа, в свою очередь, не бывает подлинной культуры. Есть, конечно, понятие «материальной культуры», но оно мало привлекает меня; точнее, я мало верю в возможность существования культуры, не содержащей хотя бы частицу духа. Но в данном случае она уже не будет только материальной: материальная составляющая оказывается лишь поводом для проявления духа в мире.
В оппозиции «духовная культура» – «материальная культура» слова «дух» и «материя» со всей очевидностью выступают как противоположности, а не как две стороны единого континуума реальности. Ведь иначе можно было бы сказать, что «материальная культура» – это отправная точка культуры духовной, а последняя – высшая ступень, которой может достичь культура материальная. Но, как показала история, материальная культура зачастую бездуховна, а настоящая духовная культура далеко не всегда вырастает из культуры материальной, более того: уровень развития последней в определенных случаях обратно пропорционален уровню духовности человеческого общества. Как говорил И. Стравинский, «художники-витражисты Шартрского собора располагали немногими красками, у сегодняшних же витражистов их сотни, но нет современного Шартра»[5 - См.: Друскин М. С. Игорь Стравинский. Личность, творчество, взгляды / Михаил Семенович Друскин. Л.: Советский композитор, 1979. С. 207.].
В противоположность означенной интерпретации материальной культуры, то, к чему обычно применяют этот термин, на мой взгляд, – это скорее цивилизация, плод развития рациональных способностей человека, результат его стремления практически овладевать реальностью, совершать над ней какие-то действия (то, что было не слишком по вкусу Бергсону, и то, с чем приходится мириться: таковы условия жизни, таковы условия игры). Тут, конечно, можно вспомнить о шпенглеровской диалектике культуры и цивилизации; об убежденности ученого в том, что цивилизация является фатальной и неизбежной развязкой в драме жизни культуры; о бездуховности, искусственности, техницизме как признаках любой цивилизации. Если культура (бытие которой Шпенглер сравнивает с бытием и становлением живого организма[6 - Напомню один из блистательных фрагментов шпенглеровской книги: «Культуры суть организмы. <…> Огромная история китайской или античной культуры представляет собой морфологически точное подобие микроистории отдельного человека, какого-нибудь животного, дерева или цветка. <…> Если есть желание узнать повсеместно повторяющуюся внутреннюю форму, то сравнительная морфология растений и животных давно уже подготовила соответствующую методику. В судьбе отдельных, сменяющих друг друга, вырастающих друг возле друга, соприкасающихся, оттесняющих и подавляющих друг друга культур исчерпывается содержание всей человеческой истории» (Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории: в 2 т. Т. 1: Гештальт и действительность / Освальд Шпенглер; пер. с нем., вступ. статья и примеч. К. А. Свасьяна. М.: Мысль, 1998. С. 262).]) проходит разные этапы развития, расцвета, актуализации творческого потенциала, – то цивилизация выступает необходимым предсмертным этапом угасания духа (и при этом стократного умножения всего, что лишено духа).
Позволю себе не пересказывать Шпенглера, а привести довольно развернутую, но исчерпывающую цитату. «Что такое цивилизация, понятая как органически-логическое следствие, как завершение и исход культуры? Ибо у каждой культуры есть своя собственная цивилизация. <…> эти оба слова <…> понимаются здесь <…> как выражение строгой и необходимой органической последовательности. Цивилизация – неизбежная судьба культуры. Здесь достигнут тот самый пик, с высоты которого становится возможным решение последних и труднейших вопросов исторической морфологии. Цивилизации суть самые крайние и самые искусственные состояния <…>. Они – завершение; они следуют за становлением как ставшее, за жизнью как смерть, за развитием как оцепенение <…>. Они – конец, без права обжалования, но они в силу внутренней необходимости всегда оказывались реальностью»[7 - Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. С. 163–164.].
В дальнейшем я попробую показать, что без духа так называемая «материальная культура» утрачивает онтологический статус культуры. В конечном счете действия над реальностью оборачиваются насилием над ней, и человечество давно перешло ту грань, когда необходимость преобразования мира превращается в закономерность его постепенного уничтожения.
Разрушение реальности может быть вполне спонтанным, почти неосознанным. Но оно может быть и намеренным, и, наверное, максимальная степень проявления такой сознательной «воли к разрушению» выражается в эстетизации последней. Отсюда – благосклонное и в чем-то шокирующе-гедонистическое отношение к жестокости, распространившееся в ту эпоху, которую назвали посткультурой (или просто ПОСТ-, как именует это явление В. Бычков)[8 - См., например: Бычков В. В. Художественный Апокалипсис культуры. Кн. 2. С. 93, 199, 200, 201–204, 209. А также: Бычков В. В. Художественный Апокалипсис культуры. Строматы XX века. Непарагматический гиперпроект Виктора Бычкова. Суперроман с XX веком / Виктор Васильевич Бычков. Кн. 1. М.: Культурная революция, 2008. С. 432, 435.Естественно, соединение культа эстетизма с культом разрушения ярче всего проявилось в той сфере, для которой эстетическое есть имманентное качество, – в сфере искусства. Но искусство, хотя оно и является сущностным экстрактом культуры (как я попытаюсь показать в дальнейшем), есть только ее часть, о чем не следует забывать.]. Разумеется, когда жестокость как смысловая константа не просто внедряется в культуру – концентрированную реальность (по Бычкову), – но и начинает модифицировать смысловую структуру и сущность последней, наступает распад, самоуничтожение этой концентрированной реальности. Что, конечно же, ничем не лучше разрушения реальности физической. Даже хуже, поскольку культура сублимирует смыслы реальности и духовной, и физической.
Елена Владимировна Ровенко
В книге исследуются рецепция и интерпретация базовых онтологических категорий – времени, пространства, материи – во французской философии и искусстве (музыка и живопись) рубежа XIX–XX веков. Выявляется соответствие двух картин мира, создаваемых каждой из этих областей человеческого духа. В орбиту изучения попадают наиболее примечательные фигуры, новации которых отражают кардинальный поворот в философском и художественном мышлении, прежде всего – с точки зрения трактовки важнейшей для миропонимания рубежа столетий категории времени. Философия Анри Бергсона, музыка Клода Дебюсси, фантазии Одилона Редона вступают на страницах книги в диалог, окрашенный в онтологические тона.
Елена Ровенко
Время в философском и художественном мышлении. Анри Бергсон, Клод Дебюсси, Одилон Редон
© Е. В. Ровенко, автор, 2015
© И. С. Крушинский, оформление, 2016
© Прогресс-Традиция, 2016
Предисловие
Французская культура рубежа XIX–XX веков всегда была предметом пристального внимания и изучения в России. В книге, которую читатель держит в руках, искусство названного периода рассматривается в философском ракурсе (в аспектах онтологическом и гносеологическом). По мнению автора, становление мирового духа в принципе не может быть завершено, вопреки Гегелю. И культура – высшая сфера актуализации духа – представляет собой постоянно становящееся прошлое, никогда не обретающее абсолютной завершенности и не исчерпывающее свой смысловой потенциал, обогащающееся смыслами в настоящем и интенционально направленное в будущее. Автор, вслед за представителями школы Анналов, Шарлем Пеги, Филиппом Арьесом, стремится показать, что это становление, будучи подлинной историей бытия мирового духа, имеет эстетическую сущность.
В пределах предложенного понимания феномена истории искусство предстает индикатором мировоззренческих изменений и даже смены гносеологического вектора в общении с миром. Онтологическая структура художественных миров, созданных ярчайшими представителями той или иной эпохи, может многое сказать о понимании в этот период сущностных категорий времени, пространства, материи. Может сказать не менее ясно и впечатляюще, чем философия или, скажем, точные науки. Более того: на протяжении одной эпохи прослеживаются определенные соответствия (пользуясь бодлеровской трактовкой слова les correspondances) между интерпретацией сущностных категорий времени, пространства, материи в произведениях искусства – и интерпретацией этих же категорий в философских концепциях.
В настоящей книге выявляется специфика таких соответствий в эпоху рубежа XIX–XX столетий. Предметом изучения и материалом служат концепция Анри Бергсона и художественные миры Клода Дебюсси и Одилона Редона, людей, несомненно, примечательных, предложивших каждый в своей области новаторские решения. Очевидно, что подобного рода исследования искусства и философии, точек их соприкосновения обладают междисциплинарным характером и требуют специфического ракурса рассмотрения и особой методологии. Стоит напомнить, что сам Бергсон считал философию родом, видами которого являются разные искусства; поэтому ни онтологического, ни гносеологического диссонанса тут не должно возникнуть. Что касается методологического диссонанса, то во избежание его была предпринята попытка развить методологию самого Бергсона, предложить новые инструменты исследования, в частности, ввести в искусствоведческий обиход бергсоновские качественные категории la dure?e и e?lan vital и даже присвоить им особый статус образов-понятий (это соединение двух слов, по мнению автора, вполне может быть использовано как рабочий термин).
Причем акцент был поставлен во всех трех случаях, даже в случае с изобразительным искусством, на новаторском понимании категории времени. Не только потому, что именно в интерпретации этой категории на рубеже XIX–XX веков произошел впечатляющий скачок, но и потому, что именно эта категория неразрывно связана с феноменом жизни как таковой и с эволюцией, в том числе с историческим развитием.
Таким образом, устанавливаются переклички, в духе бодлеровских соответствий, между бергсоновской концепцией мироздания и особенностями художественных миров Дебюсси и Редона. Причем, когда речь идет об искусстве, изучаются особенности воплощения категории времени на всех уровнях бытия художественного организма, начиная от мельчайших единиц материала – и до становления формы целого. Также в орбиту рассмотрения включаются характерные черты творческого процесса и имплицитной эстетики названных мастеров.
Автор почитает своим долгом выразить самую искреннюю благодарность всем, кто помогал в работе над книгой. Прежде всего Константину Владимировичу Зенкину, в прошлом моему научному руководителю, доктору искусствоведения, профессору МГК им. П. И. Чайковского, за ценные советы и профессиональную поддержку. От души хочу поблагодарить рецензентов, потративших часы своего драгоценного времени на чтение рукописи: доктора философских наук Ирину Игоревну Блауберг, ведущего отечественного специалиста в области изучения философии Бергсона, и доктора искусствоведения Владимира Петровича Чинаева, тонкого ценителя французской культуры и поклонника творчества Редона, за рекомендации по усовершенствованию текста. Также автор выражает особую признательность Ярославу Игоревичу Станишевскому за помощь в подготовке технической части издания (нотный набор, работа с иллюстрациями и рисунками).
Часть первая: Du c?tе de chez Bergson
Глава I. «Прикасаясь к прошлому…»,
в которой говорится о том, почему дух и культура как феномены до сих пор являются актуальными для человечества смыслами; почему возвращение на столетие назад позволяет это понять; почему эволюция духа и культуры творит Историю, раскрываясь прежде всего в эстетической сфере; почему сущностные черты мышления эпохи находят воплощения в разных историко-культурных реалиях; наконец, здесь происходит знакомство с героями дальнейшего повествования, а автор пытается пригласить читателя к сопереживанию и тем самым оправдывается за написанное.
…Не заменяешь своим искусством прошлое, а только прибавляешь к нему новое звено[1 - Цит. по: Мастера искусства об искусстве. Избранные отрывки из писем, дневников, речей и трактатов / под общ. ред. А. А. Губера и др.: в 7 т. М.: Искусство, 1968. Т. 5. Кн. 1: Искусство конца XIX-начала ХХ века. С. 151. Письмо Роже Марксу из Экса, 23 января 1905 года.].
Поль Сезанн
Прикасаясь к прошлому, всегда испытываешь своего рода трепет: потому что, волей-неволей, чувствуешь соприсутствие прошлого с нашим нынешним существованием, будто прошлое здесь, глядит через плечо. Прикасаясь к прошлому культуры, испытываешь священный трепет, потому что чувствуешь присутствие духа.
Эти слова, «дух» и «культура», тесно связаны, и оба «имеют свою историю», как сказал бы Анри Бергсон – один из героев предлагаемой работы. Любопытствующим можно освоить целую библиотеку по вопросам этимологии, рецепции, интерпретации названных понятий и игры с ними – игры лингвистической, эстетической, философской; иронической и трагической; высокомерной и заинтересованно-серьезной. Но сейчас речь не об этом. В истории осмысления феноменов духа и культуры были этапы, на которых им отказывали в онтологической подлинности, объявляя чрезмерно иррациональными фантомами или, напротив, утонченными изысками интеллекта. Особенно это относится к духу. Тогда дух и культура переходили из разряда явлений в разряд умозрительных категорий, понятий, за которыми не стоит ничего, кроме удобной для разума абстракции или, наоборот, кроме измышления услужливой фантазии. На мой взгляд, и то, и другое мнение закономерно и даже онтологически достоверно, но не в том смысле, что скрывающееся за словами «дух» и «культура» отличается эфемерностью, а в том смысле, что дух и культура – не однозначно феномены и не однозначно понятия, а нечто большее. Но, поскольку нет никакой возможности так далеко уходить в сторону и давать сводку по вопросам интерпретации «духа» и «культуры», постольку главное – чтобы «нечто большее» в контексте именно этой книги имело весьма определенное смысловое поле, иначе мы с читателем не сможем понять друг друга.
Договоримся, что среди иноязычных синонимов слова «дух» наиболее точно отвечает замыслу этой книги германское слово «Geist», поскольку в его основе – «индоевропейский корень „ghei“ со значением „движущая сила“, „брожение“, „кипение“»[2 - См.: Доброхотов А. Л. Дух / А. Л. Доброхотов // Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т философии РАН, Нац. общ. – научн. фонд; Научно-ред. совет: предс. В. С. Степин, заместители предс: А. А. Гусейнов, Г. Ю. Семигин, уч. секр. А. П. Огурцов. Т. 1 / науч. ред. М. С. Ковалева, Е. И. Лакирева, Л. В. Литвинова, М. М. Новосёлов, А. П. Поляков, Ю. Н. Попов, А. К. Рябов, В. М. Смолкин. М.: Мысль, 2010. С. 707.]. Иными словами, для понимания дальнейших проблем, затронутых в данной работе, важно подчеркнуть интенциональность «духа», которая кроется именно в слове «Geist» (в отличие от смыслового поля греческого слова «??????» или латинских «spiritus» и «mens»). Отсюда вовсе не следует, что в соответствующее слово вкладывается весь комплекс смыслов, который был столь естествен для немецкого Просвещения: меня интересует именно (хотя и не исключительно) это указание на интенциональность как имманентное качество духа. Сейчас я говорю не о толковании «духа», а о тех смысловых нюансах, которые должны быть высвечены, хотя, несомненно, открытия Фихте, Гегеля и Шеллинга в сущностном понимании «духа» тут приходятся как нельзя кстати. Мне не хотелось бы, чтобы читатель почувствовал скрытое противоречие между французской культурой как предметом исследования в этой книге – и немецко-центристским ориентиром для одной из ключевых философских и культурологических категорий. Дело в том, что, как мне кажется, в наше время плюрализма ориентиров (этических, эстетических…) мы, хорошо это или нет, имеем богатый аксиологический выбор: какой идеал воскрешать и в каком искать утешения. Поэтому, в исторической ретроспективе, уже не кажется кощунственным апеллировать к тем или иным смыслам по собственному вкусу и разумению, – лишь бы эти вкус и разумение вели к определенной цели. Как увидит читатель очень скоро, такая цель у автора существует, и она вполне ясна. Да и, в конце концов, повторюсь, для меня более всего важны те значения, которые несет имя «духа», и это имя именно в германском варианте («Geist») отвечает моим устремлениям. А все то, что стоит за этим именем и отчасти содержится как тенденция в нем, – все это «вычитывается» каждой эпохой на свой лад, и в наше время, думается, вовсе не обязательно идти вслед за Гегелем (или Шеллингом) только потому, что мы осмелились воспользоваться тем же именем, что и когда-то они. Но это не дает никакого основания игнорировать смыслы, которые издавна вкладывались в слово «Geist», как и смыслы, присущие слову «Spiritus» и производным от него или слову «mens», коль скоро все эти имена относятся к одной сущности-феномену-понятию.
Что касается культуры, то мне еще меньше хотелось бы давать определения этому феномену: тут как раз тот случай, когда ясно понимаешь всю правоту Анри Бергсона и Уильяма Джеймса, говоривших об узости любых дефиниций. Нет никакой нужды приводить сто раз переписанные фразы о «сумме материальных и духовных форм организации человеческой деятельности» и т. п. Но нельзя и допускать расплывчатое «околопредметное» толкование: каждый конкретный случай, когда произносится слово «культура», требует контекстуальной интерпретации данного феномена и разнообразных коннотаций. Так вот, в контексте настоящего исследования культуру целесообразно понимать как совокупность исторических проявлений человеческого духа в их смене, развитии и притом в единстве. Или несколько иначе: культура – сущностная интенция духа времени, взятого в человеческом аспекте. Подчеркну, что это не определение, а исключительно попытка очертить тот круг значений рассматриваемого слова, который актуален для автора этой работы – ведь нет ничего хуже, чем дезориентировать читателя.
В принципе, можно принять определение В. В. Бычкова: «Под Культурой (с прописной буквы) имеются в виду исторические этапы развития духовно-практической деятельности человека (включая ее результаты), в том числе и художественно-эстетической, восходящие к культурам Древнего Востока, Древней Греции, античного Рима, которые формировались и развивались в русле религиозного (или околорелигиозного) миропонимания, ориентированного на веру в объективное бытие высшей духовной реальности (богов, духов, Первоединого, Абсолюта, Бога и т. п. – некоего Великого Другого, используя современную лексику), оказывающей воздействие на возникновение, развитие, существование жизни, в том числе и прежде всего – человеческой»[3 - Бычков В. В. Эстетика / Виктор Васильевич Бычков. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Гардарики, 2006. С. 319–320.]. Или еще лаконичнее (это уже не определение, а просто характеристика – но весьма неоднозначная в своей простоте): «Культура (с большой буквы) – это реальность в квадрате, концентрированная Реальность. Более реальная, чем обыденная реальность (или действительность)»[4 - Бычков В. В. Художественный Апокалипсис культуры. Строматы XX века. Непарадигматический гиперпроект Виктора Бычкова. Суперроман с XX веком / Виктор Васильевич Бычков. Кн. 2. М.: Культурная революция, 2008. С. 198–199.]. Мне кажется, к приведенной фразе есть что добавить. А именно: Культура – это одновременно и трансцендирование сущностных смыслов реальности (в единстве материального и духовного), и создание особой, новой реальности посредством преображения этих смыслов в акте указанного трансцендирования.
Главное для меня – взаимосвязь духа и культуры, их взаимообусловленность и взаимозависимость. Дух не может воплотиться в иной форме, чем культура, а без духа, в свою очередь, не бывает подлинной культуры. Есть, конечно, понятие «материальной культуры», но оно мало привлекает меня; точнее, я мало верю в возможность существования культуры, не содержащей хотя бы частицу духа. Но в данном случае она уже не будет только материальной: материальная составляющая оказывается лишь поводом для проявления духа в мире.
В оппозиции «духовная культура» – «материальная культура» слова «дух» и «материя» со всей очевидностью выступают как противоположности, а не как две стороны единого континуума реальности. Ведь иначе можно было бы сказать, что «материальная культура» – это отправная точка культуры духовной, а последняя – высшая ступень, которой может достичь культура материальная. Но, как показала история, материальная культура зачастую бездуховна, а настоящая духовная культура далеко не всегда вырастает из культуры материальной, более того: уровень развития последней в определенных случаях обратно пропорционален уровню духовности человеческого общества. Как говорил И. Стравинский, «художники-витражисты Шартрского собора располагали немногими красками, у сегодняшних же витражистов их сотни, но нет современного Шартра»[5 - См.: Друскин М. С. Игорь Стравинский. Личность, творчество, взгляды / Михаил Семенович Друскин. Л.: Советский композитор, 1979. С. 207.].
В противоположность означенной интерпретации материальной культуры, то, к чему обычно применяют этот термин, на мой взгляд, – это скорее цивилизация, плод развития рациональных способностей человека, результат его стремления практически овладевать реальностью, совершать над ней какие-то действия (то, что было не слишком по вкусу Бергсону, и то, с чем приходится мириться: таковы условия жизни, таковы условия игры). Тут, конечно, можно вспомнить о шпенглеровской диалектике культуры и цивилизации; об убежденности ученого в том, что цивилизация является фатальной и неизбежной развязкой в драме жизни культуры; о бездуховности, искусственности, техницизме как признаках любой цивилизации. Если культура (бытие которой Шпенглер сравнивает с бытием и становлением живого организма[6 - Напомню один из блистательных фрагментов шпенглеровской книги: «Культуры суть организмы. <…> Огромная история китайской или античной культуры представляет собой морфологически точное подобие микроистории отдельного человека, какого-нибудь животного, дерева или цветка. <…> Если есть желание узнать повсеместно повторяющуюся внутреннюю форму, то сравнительная морфология растений и животных давно уже подготовила соответствующую методику. В судьбе отдельных, сменяющих друг друга, вырастающих друг возле друга, соприкасающихся, оттесняющих и подавляющих друг друга культур исчерпывается содержание всей человеческой истории» (Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории: в 2 т. Т. 1: Гештальт и действительность / Освальд Шпенглер; пер. с нем., вступ. статья и примеч. К. А. Свасьяна. М.: Мысль, 1998. С. 262).]) проходит разные этапы развития, расцвета, актуализации творческого потенциала, – то цивилизация выступает необходимым предсмертным этапом угасания духа (и при этом стократного умножения всего, что лишено духа).
Позволю себе не пересказывать Шпенглера, а привести довольно развернутую, но исчерпывающую цитату. «Что такое цивилизация, понятая как органически-логическое следствие, как завершение и исход культуры? Ибо у каждой культуры есть своя собственная цивилизация. <…> эти оба слова <…> понимаются здесь <…> как выражение строгой и необходимой органической последовательности. Цивилизация – неизбежная судьба культуры. Здесь достигнут тот самый пик, с высоты которого становится возможным решение последних и труднейших вопросов исторической морфологии. Цивилизации суть самые крайние и самые искусственные состояния <…>. Они – завершение; они следуют за становлением как ставшее, за жизнью как смерть, за развитием как оцепенение <…>. Они – конец, без права обжалования, но они в силу внутренней необходимости всегда оказывались реальностью»[7 - Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. С. 163–164.].
В дальнейшем я попробую показать, что без духа так называемая «материальная культура» утрачивает онтологический статус культуры. В конечном счете действия над реальностью оборачиваются насилием над ней, и человечество давно перешло ту грань, когда необходимость преобразования мира превращается в закономерность его постепенного уничтожения.
Разрушение реальности может быть вполне спонтанным, почти неосознанным. Но оно может быть и намеренным, и, наверное, максимальная степень проявления такой сознательной «воли к разрушению» выражается в эстетизации последней. Отсюда – благосклонное и в чем-то шокирующе-гедонистическое отношение к жестокости, распространившееся в ту эпоху, которую назвали посткультурой (или просто ПОСТ-, как именует это явление В. Бычков)[8 - См., например: Бычков В. В. Художественный Апокалипсис культуры. Кн. 2. С. 93, 199, 200, 201–204, 209. А также: Бычков В. В. Художественный Апокалипсис культуры. Строматы XX века. Непарагматический гиперпроект Виктора Бычкова. Суперроман с XX веком / Виктор Васильевич Бычков. Кн. 1. М.: Культурная революция, 2008. С. 432, 435.Естественно, соединение культа эстетизма с культом разрушения ярче всего проявилось в той сфере, для которой эстетическое есть имманентное качество, – в сфере искусства. Но искусство, хотя оно и является сущностным экстрактом культуры (как я попытаюсь показать в дальнейшем), есть только ее часть, о чем не следует забывать.]. Разумеется, когда жестокость как смысловая константа не просто внедряется в культуру – концентрированную реальность (по Бычкову), – но и начинает модифицировать смысловую структуру и сущность последней, наступает распад, самоуничтожение этой концентрированной реальности. Что, конечно же, ничем не лучше разрушения реальности физической. Даже хуже, поскольку культура сублимирует смыслы реальности и духовной, и физической.