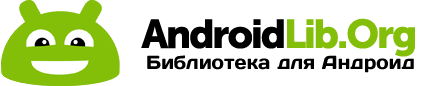AndroidLib » Читалка
Кавказский пленник
Отношение к художественному творчеству в эти поздние десятилетия сделалось у него заметно иным. Поэтические замыслы не оставляли писателя, но почти всегда отныне они содержали в себе элемент поучения, «морали», явной или скрытой. Таким был прежде всего роман «Воскресение» – титанический опыт воззвания «ко всем людям мира». Утверждению «новой веры» (конечно, их содержание никогда не ограничивалось только этим) служили так или иначе многие повести, рассказы писателя той поры. Но почти одновременно с работой над «Воскресением» Толстой задумал повесть, которая мало походила на все, что он написал в те годы. От начала до конца ее отличала лирическая тональность, почти исповедальный, живой характер. Писатель создавал ее долго, с большими перерывами, оберегая от посторонних глаз. Нередко он говорил себе, что в этом случае занимается «пустяками», теряет время, необходимое для других дел, более важных в его понимании. И опять возвращался к ней, словно здесь-то и находился самый главный, таинственный ключ ко всей его долгой жизни, ее ценностям, ее итогам. В поле зрения писателя вновь оказался Кавказ времен его молодости. С 1896 по 1904 год был написан «Хаджи-Мурат» – последнее у Толстого большое художественное произведение.
Это – историческая повесть, и не только потому, что писатель был отделен от памятной ему эпохи уже без малого половиной века. Он, конечно, дорожил в новой своей работе личными воспоминаниями, более того, не будь у него такой «путеводной нити», произведение, видимо, просто не могло бы состояться. И все же Толстой создавал не просто поэтический этюд о милом ему, давно ушедшем времени, а повесть, основанную на совершенно реальных событиях. Среди ее персонажей, наряду с теми, что увидели свет исключительно по воле художника, появились десятки действующих лиц, носивших имена, хорошо известные в истории. Более того, они оказывались в центре повествования. Были тут и другие лица, тоже не придуманные, хотя их фамилии в памяти потомков почти не сохранились. Главный герой, по имени которого повесть получила свое название, относился к числу самых заметных, можно сказать прославленных, участников давнего военного противостояния. «Людям, не бывшим на Кавказе во время нашей войны с Шамилем, – говорил Толстой в одном из вариантов повести, – трудно себе представить то значение, которое имел в это время Хаджи-Мурат в глазах всех кавказцев».
По признанию многих современников, это был едва ли не самый дерзкий, бесстрашный, хитрый и удачливый военачальник недружественных России горских племен. На протяжении двенадцати лет он причинял войскам русского царя наибольшее беспокойство, нанося ощутимые удары в самых неожиданных местах, уходя от любого преследования. В 1851 году Хаджи-Мурат оказался в непростом положении. Между ним и могущественным Шамилем, религиозным и политическим вождем всех воюющих горцев (сами они называли своего владыку – имам), начались глубокие распри. Говорили, будто Шамиль несправедливо обвинил Хаджи-Мурата в последних поражениях, которые потерпели горские отряды. Может быть, он просто опасался его огромной популярности и только искал случая устранить опасного соперника. Скорее всего, у конфликта было много причин: недавних и застарелых. Так или иначе, знаменитый воин почувствовал угрозу кровавой расправы над собой.
Спасая себя, оскорбленный, движимый чувством мести, Хаджи-Мурат перешел на сторону вчерашних врагов и предложил свои услуги в дальнейшей войне против Шамиля. Беглецу оказали почетный прием: сохранили ему оружие, выплачивали денежное содержание из казны, вместе с ним оставались его духовные послушники и телохранители – мюриды, которые во время побега сопровождали прославленного горца. Встречаясь в Тифлисе с наместником царя на Кавказе М. С. Воронцовым, Хаджи-Мурат обсуждал с ним возможные планы своего участия в боевых действиях. Впрочем, положение осложнялось тем, что семья Хаджи-Мурата осталась в руках Шамиля. Все эти недели бывший смертельный враг «неверных» часто выходил на прогулку по улицам города, привлекая к себе общее внимание. Тогда же здесь находился и Толстой, хотя, судя по всему, будущего героя повести он так ни разу и не видел, только слышал рассказы о нем. В конце апреля 1852 года Хаджи-Мурат (он жил тогда по его просьбе в городе Нуха, на территории Азербайджана) неожиданно попытался бежать обратно в горы, но был настигнут и, после отчаянного сопротивления, убит. Голову Хаджи-Мурата привезли в Тифлис как бесспорное свидетельство его смерти.
«…Когда я пишу историческое, – признавался Толстой, – я люблю быть до малейших подробностей верным действительности». Эти слова были сказаны во время работы над «Хаджи-Муратом». Ему и прежде случалось десятками читать большие исторические труды, воспоминания, записки, беседовать со многими свидетелями давно прошедших времен. Так было во время труда над «Войной и миром» и тогда, когда он, полный решимости начать работу, собирал материалы для романа о Петре Первом, большого произведения о декабристах – замыслов, так и не воплощенных. Но все-таки изучение подлинных фактов, необходимых для новой повести, по размаху не имело себе равных. Толстой изучал книги не только по истории, но и по этнографии (наука о народах Земли), археологии, географии Кавказа. Ему присылали по его просьбе выписки из пока еще не опубликованных архивных материалов. Он искал встречи, вступал в переписку со многими из тех, кто мог сохранить даже и малейшие воспоминания о волнующих его событиях. Если когда-то на страницах «рассказа для маленьких» такие подробности выглядели несущественными, даже неуместными, то теперь они получили для писателя самое серьезное значение. Ему казалось, что повесть «из прошлого» должна отражать решительно все стороны подлинной жизни.
Историки войны на Кавказе довольно подробно говорили о событиях, связанных с переходом Хаджи-Мурата на сторону его недавних противников. Толстому были известны яркие документы того времени: записка М. Т. Лорис-Меликова – будущего министра, тогда офицера, где прямо со слов знаменитого перебежчика излагалась его биография, письма в Петербург самого наместника Воронцова, посвященные «счастливой перемене в ходе военных действий». Отрывки из них Толстой переносил на страницы своей повести. Но живой облик «человека Хаджи-Мурата» – то, что прежде всего было ему интересно, – как правило, ускользал от внимания историков, плохо угадывался он и в сочинениях официальных лиц. И потому писатель собирал по крупицам любые сведения о внешности, манерах, особенностях поведения своего героя.
Так, он обратился с письмами к сыну и вдове полковника И. К. Корганова: у него в доме Хаджи-Мурат жил перед своим побегом обратно в горы. «Всякая подробность о его жизни, – объяснял он А. А. Коргановой, – во время пребывания у вас, об его наружности и отношениях к вашему семейству и другим лицам, всякое кажущееся ничтожным обстоятельство, которое сохранилось у вас в памяти, будет для меня очень интересно и ценно». Сын русского полковника и в самом деле сообщил Толстому одну интересную деталь: он вспомнил, как Хаджи-Мурат, видимо из давнего опасения, что его отравят, за столом брал кушанье обязательно из того места, откуда накладывали себе хозяева. Изображая обед у Воронцова-младшего, Толстой упомянул об этой манере необычного гостя, как поступал он и во многих других случаях с другими не менее выразительными, подлинными штрихами.
Показать человека поэтически всегда означало для писателя пролить свет на его внутренний облик, вообразить с полной реальностью его мысли, переживания. В случае с Хаджи-Муратом такая задача была особенно трудной. Толстой вел рассказ о представителе иной культуры, иного жизненного уклада. Конечно, он вспоминал приятелей своей молодости Балту и Садо, может быть, кого-то еще из давних знакомых. Тем не менее таких воспоминаний было ему недостаточно. И Толстой обратился к устному творчеству народов Кавказа. Речь знаменитого воина представилась писателю образной и краткой, она изобиловала многими характерными для горцев оборотами. Как правило, художник не приводил их дословно, какими нашел в книгах, посвященных кавказским обычаям и культуре, а едва заметно изменял, добиваясь естественности и простоты звучания. Горские песни, которыми он восхищался, тоже были очень важны в свете его замысла. Они, казалось Толстому, открывали верную дорогу в душевный мир его героя. Одна из них, подлинная «Песня о Гамзате», которую слышал в повести Хаджи-Мурат, стала источником впечатляющей «внутренней картины» – рассказа о том, что испытывал, думал известный горец ночью накануне своего последнего побега.
Но почему именно судьба Хаджи-Мурата, опального сподвижника Шамиля, так властно увлекла Толстого? В этом есть на первый взгляд какая-то странность, едва ли не причуда всеми признанного гения, тем более занятого столь постоянно и упорно вопросами вселенскими, мировыми. Между тем ничего случайного тут не было. Образ подлинного исторического лица затронул в душе писателя самые глубокие истоки его собственного отношения к миру, истоки всего найденного им вероучения. Замысел повести появился у него внезапно, под воздействием обычного жизненного впечатления. И уже тогда он заключал в себе своеобразную «философию природы». «Вчера иду по передвоенному черноземному пару, – отметил Толстой на страницах дневника 19 июля 1896 года. – Пока глаз окинет, ничего, кроме черной земли, – ни одной зеленой травки. И вот на краю пыльной, серой дороги куст татарина [репья], три отростка; один сломан, и белый, загрязненный цветок висит; другой сломан и забрызган грязью, черный, стебель надломлен и загрязнен; третий отросток торчит вбок, тоже черный от пыли, но все еще жив и в серединке краснеется. Напомнил Хаджи-Мурата. Хочется написать. Отстаивает жизнь до последнего, и один среди всего поля, хоть как-нибудь, да отстоял ее». Спустя месяц Толстому опять вспомнился поразивший его воображение репей. «Все стоит и не сдается, и один торжествует… – написал он на этот раз. – И какое-то чувство бодрости, энергии, силы охватило меня. Так и надо, так и надо».
Короткие дневниковые наброски позднее легли в основу того обширного «стихотворения в прозе», что открывало собой самое поэтическое среди поздних созданий писателя. В них наметился и особый характер поэзии «Хаджи-Мурата». Такой полноты языческого мироощущения у Толстого не было, пожалуй, больше нигде, даже в «Казаках». В повести появилась картина огромного, подобно полевым цветам, с любовью описанным в ее прологе, цветущего, бесконечно богатого мира. И все, кто находились в нем: люди, звери, деревья, травы, – были напоены одним для всех неукротимым чувством бытия. Оно то заявляло о себе видимо, воочию, как это происходило в заключительном рассказе о смерти главного героя, то «осеняло» едва заметно более тихие, «задушевные» эпизоды.
Вот солдаты ночью в дозоре. Над ними дерева (не деревья, а именно «дерева» – Толстой несколько раз повторил это слово). Еще выше звезды, они движутся по небосводу: то видны, а то упрятаны за ветвями, сучьями «дерев». К солдатам выходят горцы, посланные Хаджи-Муратом сообщить, что он готов перейти к русским. Их пошел проводить к начальству молодой солдатик Авдеев. «А какие эти, братец ты мой, гололобые ребята хорошие, – сообщал он своим товарищам, вернувшись обратно. – Ей-богу! <…> Право, совсем как российские. <…> Так разговорились хорошо». Эти солдаты, горцы, «дерева», небесные светила составляли, по мысли художника, единую нравственную вселенную. В ней была, как он полагал, изначально растворена великая любовь, отзывчивость, вечное, неистощимое добро. Раненый репей-татарин привлек его внимание не сам по себе. Он отстоял, казалось Толстому, заключенную в нем частицу божества, общего для всех «закона жизни». И Хаджи-Мурат выглядел в его глазах самым полным, законченным выражением этой природной силы, которая навсегда соединилась в мечтах писателя с понятием о нравственности.
Толстой, конечно, отдавал себе отчет в том, что знаменитый противник русских, а потом их нежданный союзник далеко не во всем отвечал такому представлению о нем. Находя новые и новые подтверждения тому, что Хаджи-Мурат строго исполнял магометанские обряды, что это был во всем правоверный мусульманин, писатель не мог скрыть своего огорчения: всякая религия, кроме его собственной, в то время казалась ему заблуждением. «Как он был бы хорош, если бы не этот обман», – однажды сокрушенно заметил он о Хаджи-Мурате. Художник-реалист, Толстой не хотел жертвовать исторической правдой и многократно упомянул в повести, кто был ее главный герой по вероисповеданию. Тем не менее в поле его зрения постоянно оставалась давняя мечта, которую он так любил в этом персонаже. И он нарисовал образ человека осторожного, знающего себе цену, но, совершенно в духе толстовских понятий, чистого душой, наделенного природной отзывчивостью ко всем людям: соплеменникам и вчерашним врагам. Трудно сказать, насколько Хаджи-Мурат в действительности был таким. Историки не обращали внимания на его душевные качества. Писатель же неизменно «угадывал» в нем отсвет земной, естественной доброты.
Никто из тех, кому пришлось видеть знаменитого горца (разумеется, если они остались живыми после такой встречи), не говорил о том, что у него была добрая улыбка. В лучшем случае сохранились ни к чему не обязывающие воспоминания о вполне миролюбивых отношениях с ним после его перехода к русским. Хаджи-Мурат сдался сыну царского наместника, командиру Куринского полка С. М. Воронцову, с которым до этого несколько дней в глубокой тайне вел переговоры. Свидетелем этой сцены стал В. А. Полторацкий, известный Толстому по временам службы на Кавказе русский офицер, чей отряд был назначен в то утро на рубку леса. «Только что подскакал я к 3-му взводу, – рассказывал он, – как из опушки леса показалось несколько всадников. Впереди всех ехал красивый, статный брюнет, в щегольской, белого сукна черкеске, украшенный дорогим, в золотой оправе, оружием. Умное и энергическое лицо его, с блестящими черными глазами, выражало полное спокойствие и самонадеянность. Приятельски протянув мне руку, он развязно сказал мне на аварском языке приветствие и, вопросительно махнув рукою в сторону князя, вместе со мною направился к нему. Это был сам Хаджи-Мурат». Воспоминания Полторацкого Толстой внимательно прочел, но обрисовал те же события по-своему.
В повести остались неизменными, хотя и перенесенные в новую ткань художественного произведения, почти все основные подробности, о которых сообщал участник подлинной сцены. И все же, показывая встречу русского офицера с Хаджи-Муратом, писатель вообразил еще одно, нигде не отмеченное, обстоятельство. «Он подъехал к Полторацкому, – сказано у Толстого о Хаджи-Мурате, – и сказал ему что-то по-татарски. Полторацкий, подняв брови, развел руками в знак того, что не понимает, и улыбнулся. Хаджи-Мурат ответил улыбкой на улыбку, и улыбка эта поразила Полторацкого своим детским добродушием. Полторацкий никак не ожидал видеть таким этого страшного горца. Он ожидал мрачного, сухого, чуждого человека, а перед ним был самый простой человек, улыбавшийся такой доброй улыбкой, что он казался не чужим, а давно знакомым приятелем». Улыбка Хаджи-Мурата удивила затем и светскую красавицу Марью Васильевну, жену Воронцова-младшего. Эта улыбка стала настоящим «солнцем» той языческой вселенной, которую теперь, на материале давно минувшей войны, создавал Толстой.
Несмотря на довольно скромные, по сравнению с большими романами писателя, ее размеры, новая повесть была задумана им широко, она вмещала в себя разнообразных действующих лиц, не похожие друг на друга описания и картины. Художник словно стремился уловить малейшие «отголоски» того, что происходило с Хаджи-Муратом, в судьбах десятков других людей. В этой работе ему была особенно дорога мысль о постоянной связи между собой всех живущих на свете. Русские солдаты, офицеры, горцы, казаки, крестьяне в далекой заснеженной деревне, генералы, министры, придворные – все они так или иначе становились участниками «давнишней кавказской истории». Действие повести переносилось из горного аула в русскую крепость, из Тифлиса в Петербург, из лесной чащи Кавказа в глубинную Россию. И почти везде, особенно среди простых героев произведения, Толстой открывал искры своего естественного добра, постоянную, как он считал, готовность к вечному миру.
И все же это была повесть о смерти, человеческих страданиях и бедах. Откуда они? Где тот плуг, что распахал цветущее поле, оставляя на нем лишь отдельные живые ростки? Почему улыбка Хаджи-Мурата, почему простые человеческие отношения заявляли о себе так подспудно, словно вырываясь из плена, должны были вечно отстаивать себя? Легко догадаться, какой ответ уже имел писатель на эти мучительные вопросы. Он не верил, что душа человека, и в самом деле сотворенная для добра, все же обречена до конца времен вести борьбу со злом, искушением, соблазном. Не верил, что подлинная гармония достигается только подвигом, смирением сердца, что без этой внутренней тишины не бывает и мира на земле. Не верил в последние годы ни в одну из тех священных истин, что знали русские мужики, солдаты, в том числе участники войны с Шамилем. Согласно своим понятиям он изображал героев повести. И согласно тем же понятиям находил причину всех зол на свете. Такой причиной по-прежнему виделось ему исторически неправильное устройство жизни.
Разумеется, в «Хаджи-Мурате» Толстой избегал «обличать» открыто все то, что он считал пороками цивилизации. «Лирическая эпопея» не допускала такой, прямоты высказывания. Но самим течением повести он подводил читателя к мысли, что главный бич естественной добродетели – это государство, еще точнее – любая власть. Живое не терпит никаких рамок. Ему нужна полная, решительная свобода. И тогда расцветет сам собою, засияет вечной улыбкой весь мир. А государство не хочет этого. Оно одевает в мундиры простых русских мужиков, разлучает их с домом, наказывает за неповиновение, требует убивать на войне себе подобных и самим лишаться жизни. Разве не угадывалось такое понимание вещей в рассказе о «бессмысленной» смерти солдатика Авдеева, о жизни его близких, которая пошла под откос после ухода на службу труженика сына? Это власть, но уже другая, призывает «хороших гололобых ребят» резаться насмерть с такими, как Авдеев, «неверными». Что власть необходима в мире как начало организующее, что она (даже несовершенная, как все на земле) может иметь глубоко нравственную природу, оберегать самые подлинные ценности жизни – такое казалось писателю невозможным. Он назвал бы (и называл много раз) подобное утверждение кощунством. Где государство – там порок, и чем выше, тем безнравственнее, был уверен создатель повести.
На ее страницах показаны два виднейших деятеля русской истории: царь Николай Первый и М. С. Воронцов. Фигуру наместника царя на Кавказе Толстой обрисовал ярко и выпукло, как всегда, со знанием подробностей о внешности героя, манерах его общения с теми, кем он был окружен. Все, что происходило в «Хаджи-Мурате» вблизи Воронцова: борьба интересов, потоки ничем не умеренной лести, – говорило о полном «иссякании» нравственного начала в том смысле, который придавал ему писатель. Для Толстого было не важно, что Воронцов – это прежде всего знаменитый герой 1812 года, что это его дивизия, «передовой полк» русской армии, вся полегла при Бородине уже в первые часы великой битвы, что сам ее командир был ранен. Он предпочитал вспоминать устами тех, кто собрался в один из вечеров у князя, совсем другие страницы из его прошлого, и рассказ обо всем, что говорилось тогда за ужином, отличала заметная ирония.