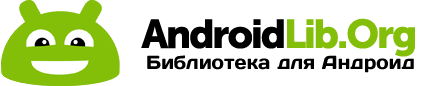AndroidLib » Читалка
Было весело в деревне…
Было весело в деревне…
Надежда Осипова
Интересная повесть о деревенской жизни. Красочный язык хорошо сочетается с юмором и честностью изложения. Текст читается на одном дыхании. Любовь, забавные приключения, увлекательные наблюдения о деревенской жизни, природа и вечные человеческие ценности…
Было весело в деревне…
Надежда Осипова
© Надежда Осипова, 2018
ISBN 978-5-4490-3109-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Судачат бабы у колодца…
Рассказ первый
Утром тёплого августовского понедельника деревенские бабы встречаются у колодца. Перебивая друг друга, спешат рассказать скопившиеся новости. Хотя торопиться им, собственно, пока некуда: скотину и мужиков уже проводили, одних на пастбище, других на работу, а теперь баста – законный женский перекур. Громче всех дерёт горло Марья, по прозванию Ширшачиха:
– Истинную правду говорю вам, бабоньки. Утопил Витька Кузнецов свой новенький «Беларусь» в болоте за Крутой горой. Как есть утопил, даже трубы не видать. Сёдни бригадир Иван Бабанин искать утопленный «Беларусь» поедет. Сама слыхала, как он молодняк с собой зазывал – пернатых энтих друзей неразлучных – Васю Гусева и Петю Уточкина. Нырять. Вы, грит им, в подводниках служить хотите, вот и привыкайте под водой обитать.
– Куда нырять? Никогда слыхом не слыхивала, чтобы в болото люди за трактором ныряли. Марья, ты часом не рехнулась? Да и сроду никаких болот за Крутой горой не бывало, – возражает ей бабка Верша. – Мы в войну там косили, сено ставили… Плёса большие были, спору нет, тёмные, смотреть в них страшно. Подле бережку купались всё же, труху сенную да пыль смывали… А болот возля нашего Дуракова отродясь не бывало. Без комарья вольно спокон веков деревня живёт.
– Ну, а сам Витька-то Кузнецов игде? – не утерпев, подгоняет соседку Дарья Супруниха.
– Дак в вытрезвитель загремел, ещё вчерась свезли. В этом, как его… в Афгане-то, говорят, Витьку шибко контузило, когда долг воинский отдавал, а тут ещё и напился. Бабы рассказывали, что ругался он страшно, с топором на всех кидался, вот и свезли.
Марья ужасается собственной выдумке про топор и вытрезвитель. Хлопает руками по крутым бёдрам, хватается в страхе за цветастый головной платок. Рядом на глиняном взъёмчике валяются её коромысло и вёдра. Чуть поодаль лёгкий ветерок балуется с подсыхающим репейником, то кружа ему колючие головы, то перегибая недужные листья задом наперёд. Когда, наконец, ветерок понимает, что развеселить хворый репей ему не удастся, то с размаху плюхается в пыль рядом с развалившейся возле забора курицей. Та испуганно кудахчет. К курице ревниво спешит молодой петух с большим красным гребнем. Ветерок в мгновение ока вскакивает, со свистом бросаясь от петуха наутёк. От столь быстрого передвижения в воздухе образуется вертящийся вовнутрь небольшой кружок вихря.
Мимо проходит во всём обмундировании телятница Танька Мулютина:
– Здорово, бабоньки. За кого сегодня переживаете?
Танька смеётся. И телячий наряд – литые сапоги со старым линялым халатом не портят её яркой красоты. Танька оглядывается, весело машет им рукой, озорно напевая:
Спорят бабы у колодца,
Чей мужик быстрей сопьётся.
Молвит бледная девица:
– Мой уж спился, лёг лечиться.
Бабы молча недобрыми завистливыми глазами смотрят вослед. Когда Танька сворачивает к своему дому в Безымянный переулок, начинают и ей прополаскивать косточки.
– Говорят, с перепою только очухалась. По родине тоскует, сказывают, по Чернобылю своему. Пьёт, курит, с чужими мужиками вожжакается, и ничё ведь ей не деется. Только красивше, лахудра, стаёт, – зло судит Ширшачиха.
– Да она же после Чернобыля, бабы бают, как это… мутанткой стала, – не отстаёт в вымыслах и Супруниха.
– Экие вы, черноротые, – плюётся бабка Верша. – Вся деревня знает, что Танька не пьёт и не курит, да и мужиков к себе не приваживает. Весь день-деньской в работе, семьища-то, шутка сказать, сама пятая, а работница-то одна. Старые да малый… И жисть заново начала, все пожитки тамотка побросали. Горе-то какое, страшное горе сколь народу постигло, – причитает бабка Верша.
– А ты чё за неё горой стоишь? Сама-то давно праведницей стала? А кто мужику твоему, Егору, перцу едучего в штаны подсыпал, когда он к Анне на свиданку бегал? Не ты ли это, Вера Лаврентьевна? Его-то быстро выходила, все причендалы ему спасла, а она, Анна-то, вдова солдатская, с ожогом сколь крутилась, считай, заживо сгнила? До самой смертушки тебя за три улицы обходила, – взялась костерить бабку Вершу и Дарья Супруниха. – А к Таньке твоей даже дед Петя Капут кажин вечер ходит, сама видала, и моему Ивану она глазки строит…
Бабка Верша не утерпела. Засмеялась. Наклонившись к околоколодезной глине, нацепила на коромысло полные ведра с прозрачной водой, да пошла, плавно переступая, через дорогу ко двору, крепенько прижимая дужки покачивающихся ведёр к коромыслу. Шагов через пять всё же бросила через плечо:
– Я свою семью в войну спасала, кормильца возля нажитых нами четверых детей удерживала. Бабы одинокие, вдовы которые, моего Егора по косточкам бы растащили, кабы не сражалась против них. А твой-то… Да кому он нужен, сморчок, соплёй прибить… Какой с него толк аль прибыток. Ни в постель, ни на работу… В базарный день за гривенник ни одна баба не возьмёт. Лентяй и пьянчуга. А дед Петька Капут к кому хошь пойдёт, даже к вам, чтобы про свой танк «Иосиф Сталин» рассказать, только уши поширше растопырьте.
Супруниха хотела броситься вслед за бабкой Вершей, чтобы выстрелить ей в спину напоследок дурным словом, но помешал нёсшийся на полном ходу сочного голубого колера новый трактор «Беларусь». За рулём сидел Витька Кузнецов, трезвый, в целости и сохранности. Ширшачиха из столбняка вышла первой:
– Отпустили, видать, голубчика. Начальство совхозное выпросило его из отсидки, – на ходу начала сочинять свежую историю. Про утопленный и возвращённый трактор быстро придумать ничего не смогла, смолчала, тут большее время требовалось.
Внимание баб вновь переключилось на Таньку. Та, переодевшись уже во всё чистое, с хозяйственной сумкой поспешала вдоль дороги в противоположном от них направлении. В магазин, – единодушно решили бабы. Талоны на водку отоварить, чтобы не пропали.
– Вот к чему Таньке талонов сразу на восемь бутылок водки кажин месяц в сельсовете выдают, – от души возмущалась Дарья Супруниха. – А ведь в семье у неё в рот никто капли не берёт. Бабки на дух пойло не переносят, а сама Танька только пригубит, еслив в компании когда…
Зависть Супрунихи первобытной силой сразу перенесла Таньку из забубенной пьянчужки в непреклонную трезвенницу.
– Это ж сколько доброго для семьи можно сотворить с такой валютой? Ни один мужик не шелохнётся, с места не сдвинется, ежели бутылку ему за работу не предложишь. А с Танькиным водочным запасом по полену ей из самого дальнего колка дров на три зимы мужики натаскают за выпивку – не унималась Дарья.
– А наши-то мужья-дураки сами все водочные талоны выжирают, до дому не успеваешь донести, – в сердцах бросила Марья, громко брякая пустым ведром по колодезному срубу, рывками опуская ручку скрипящего ворота. Бабы от обиды на своих мужиков разом смолкли, будто безотложно вспомнив, что пришли к колодцу этим утром они по делу, за водой.
Где тонко, там и рвётся…
Рассказ второй
Танька Мулютина и в самом деле спешила в магазин отоварить оставшиеся августовские талоны, хозяйственные и продуктовые, чтобы не пропали – в сентябре на них в магазине уже ничего не дадут. Сахар, водка, стиральный порошок и мыло были нынче позарез ей нужны, а вот лапшу с мышиными какашками выкупила лишь для порядка – соседу Якову Григорьевичу отдаст на прикорм борова Бориса, не по-осеннему костлявого от неутомимой уличной сутолоки.
Таньке всегда казалось, что её судьба складывается по случайностям, нелепым, глупым или трагическим, но уж никак не по собственной воле. Вот и сейчас она уже третий год как оказалась на жительстве со всем своим престарелым семейством в деревне Дураково по трагической Чернобыльской случайности. А в Чернобыль их занесло уже по нелепой случайности: её старшая сестра Валька попервоначалу попала туда по медицинскому распределению – окончила институт, а потом перетащила их к себе поближе – нянчиться с нажитыми ребятишками. Валька с мужем устроились на хорошие оклады, и им до зарезу понадобились бесплатные няньки. Сама Танька замужем никогда не бывала – Костя у неё сураз, нагульный. Притащила в подоле по глупости, как не раз говорила мать Устинья, да две престарелые тётки – Фёкла и Матрёна. На роду у Мулютиных счастье в списках, похоже, не значилось: Устинья родила Вальку и Таньку уже в перезрелом для девки возрасте, девчонок отец признал, удочерил, но как-то уж очень быстро после запоздалой свадьбы переместился на кладбище. А Фёкла и Матрёна вовсе замуж не выходили, их жениховский возраст поубивало на войне, так что Костя Мулютин воспитывался в полном матриархате, как любил говаривать их ближайший сосед Дураков Яков Григорьевич. По причине сплошной невезучести старшая сестра Валька, с малолетства расчухав это обстоятельство, старалась всегда действовать хитро и нахраписто, не допуская глупых и нелепых случайностей, хотя трагические в её жизни всё же проскальзывали. Вот и теперь она сбагрила мать и тёток к Таньке в деревню, а сама с мужем и ребятишками обосновалась в семидесяти от них километрах – в городе. И к родным наезжала только по выгоде – за дармовыми продуктами, картошкой, мясом и зеленью.
Выкупив водку, сахар и мыло с порошком, Танька рванулась в обратный путь до дома. Как ни старалась, не могла припомнить, когда она хаживала по деревне не спеша, вразвалку. Всё бегом да бегом, как борзая собака на охоте. Вот и теперь продохнуть некогда, наметила сегодня перемыть полы в доме – бабки совсем устарели, к домашней работе, которая в наклон, почти непригодны стали, а после надобно сызнова поторапливаться на совхозный телятник, чтобы напоить, накормить телятишек, да подстилку им переменить. Два телёнка в её телячьей группе болеют уж с неделю как, ещё не совсем оправились, надо будет поить их сначала травяным отваром, а потом молоком из алюминиевого бидона с соской, как малышей. И мордочку вытирать полотенцем после кормления, как малым детям. Не зря бабы на телятнике говорят: «На работе – телята, а дома – ребята». Без любви на такой работе – никак. А завтра ещё солонее день выпадает – телят будут взвешивать. Конец месяца всегда такой хлопотный. Танька работает на ферме подменной телятницей. Заменяет товарок, которые в отпуске, либо болеют. Летом куда легче было – работала на выпасах с молодняком, а теперь опять в младшую группу попала. Зойка Степанова в отпуск выпросилась – у неё двое сыновей-школьников, – проследить, направить их на учёбу надо. У Таньки Костя тоже в этом году в школу пойдёт в первый класс, сама в отпуск хотела, чтобы честь по чести проводить, на линейке постоять. За себя и за придуманного ею папу-героя-лётчика, который «погиб» на северном полюсе, потому как и могилки у него нету. Всё про героического папу продумала, до мелочей просчитала, даже детдом в ребячестве ему приписала, чтобы и родни у погибшего героя не оказалось, хотела Костю от материного позора уберечь, с детской поры не ранить греховностью, которая выпала ей как глупая случайность. Сын пока верит мамкиным красивым сказкам, а потом… вырастет. Может, поймёт да пожалеет мать, а может, и укорять станет, что безотцовщиной одна его поднимала.
Своей статью, молодостью и красотой притягивала она внимание не только деревенских мужиков, но и бабы ревнивых глаз с неё тоже не спускали: куда пошла Танька, какое платье надела, с кем и о чём говорила – имели о подобных мелочах доскональные подробности, как будто следом за ней по всему дню хаживали. И сплетни вокруг её имени создавались тоже нешуточные. Стояли как-то раз телятницы в совхозной конторе в кассу за зарплатой. Их бригадир Захар Плотников долго ходил по кабинетам, а потом поделился своей озабоченностью:
– Врач сердечный в районной поликлинике прописал мне совет – на курорт съездить, или, на худой конец, в дом отдыха, чтоб передышку себе от работы устроить хоть недельки на две…
Танька пребывала в глубокой задумчивости, подсчитывала семейную нужду и деньги, куда и на что их потратить, а потому, не особо подумав, ненароком и брякнула:
– Мне кажется, Захар Иванович, что с худым концом в доме отдыха делать нечего…
Шутке посмеялись, но уже к вечеру вся деревня знала, что Танька забраковала телячьего бригадира Захара Плотникова. Значит, располагает персональными сведениями, – постановили бабы в один голос. А Захар весь вечер и половину ночи оправдывался перед женой за тайную связь. Сама Танька уже почти привыкла, что деревенские бабы по утрам у колодца укладывают её собственными домыслами в постель с женатыми мужиками по совершенно голословным причинам.
Замуж один разок выйти ей всё же пришлось, хоть и не по своей воле, но мужниной женой пробыла ровно два с половиной дня, – это когда скотник Ванька Косой к ней посватался и в дом к себе позвал жить. Бабки в три голоса принудили, выходи да выходи, мужик рядом будет, баню им построит, стайку тёплую для скотины поставит, да пол в кухне перестелет. Танька, скрепя сердце, ради близкой своей родни согласилась. Но в замужестве с первого часу у неё всё из рук валилось, за какое бы дело ни бралась. Пересиливала себя. Плакать себе не позволяла, слёзы сдержать старалась, а улыбаться сразу перестала. С окаменевшим лицом по дому бродила. День терпела, ночь терпела. Потом ещё день и ещё ночь. А в обед поднялась из-за стола и ушла домой, даже суп не дохлебавши. Не смогла. За мужика в деревне без любви нельзя идти, потому как в семье все дела надо сообща вершить. А как работу ладить, когда с души воротит. И ночью лицом к стенке спать тоже тяжело, лучше одной как-нибудь. Без бани и без сарая. Зато без душевного обмана, со светлой радостью и спокойным сном. А дома-то мать и тётки опять в три голоса точить стали, что да почему, назад отправляют к Ваньке в дом возвертаться. Танька сносила долго ругань старух, с месяц ещё и их терпела, а потом возьми и скажи, что к такому мужу, как Ванька Косой, в придачу увеличительное стекло бабе надо в первую же ночь выдавать. Как кто подслушал, и чужих близко никого не видно было, а уже назавтра к обеду вся деревня знала, что Танька, как на телескоп денег накопит, так к Ваньке и вернётся. Его даже бабка Верша у колодца пожалела: «Надо же, – говорит, – таким инвалидом уродиться, косой, да ещё и в штанах пусто, вот горе-то какое». Ванька беспробудно запил, а Танька опять на всю деревню прославилась. Так с той поры и зареклась она замуж без любви выходить, мужиков ни за что ни про что гробить.
В любой обстановке, хоть глупой, хоть трагической, старалась Танька добротой к людям спасаться. А от повальной серости будней защищалась радостным настроем – смеялась, когда душа плакала, да пела песни и весёлые частушки. Иногда даже пыталась сама подбирать слова так, чтобы получалась хорошая песня, которая освобождала бы душу от боли. Когда что-то не ладилось, либо захлёстывала обида, чтобы не давать человеку сгоряча сдачи, сочиняла частушки-нескладушки, да распевала их в дороге либо на работе, пока не наступало глубокое успокоение. «Лучше смеяться сквозь слёзы, выглядеть полной дурой и петь глупые частушки, чем казаться умной и доводить людей до трясучки, а потом до полуночи исходить стыдом за ответную злобу», – вывела как-то раз Танька свою простенькую жизненную философию. Так и жила. Открыто, с улыбкой, песней и частушкой на все случаи жизни, какие выпадут, хоть нелепые, хоть глупые, хоть и трагические. Когда её спозаранку бабы на телятнике спрашивали, как идут дела, она им в ответ лишь шутливо распевала:
На луну я волком выла:
Как же дальше буду жить?
Выла, выла и решила:
Надо мне на всё забить!
Анархия, Вельветка, Маркиз и прочие…
Рассказ третий
Сосед Яков Григорьевич позвал Таньку на будущей неделе съездить в дальний Калиновый колок побрать шиповника, да заготовить метёлок на зиму. Его лошадь, по кличке Анархия, характер имела до того скверный, что хуже некуда, и упряжем ходить, хоть с телегой, хоть с санями, попросту брезговала. Людям Анархия повиновалась с большим трудом, жила по своей воле, и всегда творила, что хотела. Запрячь её можно было лишь долгими уговорами, потчуя хлебными корочками после каждой подвижки с упряжью. К хлебному угощению её приучил Яков Григорьевич, но и его она слушалась через раз. А поскольку другие конюхи и скотники с рёвом и злобным матом от неё во всякий день отказывались, то именно ему и выпадало годами с ней работать, но уже по другой причине – его чересчур покладистого характера. Когда Яков Григорьевич уволился из совхозных конюхов на пенсию, то и Анархию из-за непочтительного норова, на конюшне оставлять тоже не захотели. Коллективно умаявшись после его ухода с непокорной лошадью, единодушно предпочли следом за Яковом и её списать – отправить в городской мясокомбинат на колбасу.
Сказано – сделано. Конюхи написали совместную докладную бригадиру, бригадир изготовил в свою очередь бумагу для управляющего Заречным отделением, а тот уже со всей «документацией» поспешил к главному зоотехнику. Отправить на мясо не старую ещё лошадь у главного зоотехника рука всё же не поднялась, и он двинул стопы в кабинет директора. В деревне Дураково, где находилась центральная усадьба совхоза «Путь коммунизма», как говаривала Марья Ширшачиха, директора менялись сезонно, – зима, лето, осень, весна, либо поквартально, как карта ляжет. Всё зависело от погодных условий. Не успевали сельчане запомнить имя директора, а его уже снимало с работы верхнее районное начальство, как не справившегося либо с посевной, либо с уборочной, причина находилась всегда. Новый директор сел в кресло неделю назад, и так скоро терять не согретое ещё место из-за сомнительного, на его взгляд, списания здоровой рабочей лошади не хотел, поэтому вник в мельчайшие подробности лошадиной истории. Представленным бумагам не поверил, и потому возымел желание съездить на конюшню, чтобы самолично познакомиться с Анархией. Он попросил бригадира запрячь кобылу у него на глазах. Двое конюхов хомут на шею Анархии кое-как продёрнули, седёлку на спину тоже как-то накинули, но набросить на лошадиный зад шлею уже не смогли. Лошадь поначалу лягалась, кусалась, вставала на дыбы, а потом, когда обыденная колготня ей поднадоела, разметав упряжь и конюхов по скотному двору, ускакала на волю. Потрясенный директор, выпутавшись из прилетевшей на него конской сбруи, от пережитой жути смог выдохнуть только одно слово:
– Списать.
Когда Яков Григорьевич прознал, что его Анархию скоро свезут на скотобойню, то сразу побежал по начальству с просьбой о продаже. Лошадиная история повторилась, Дураков Яков проделал тот же путь по списанию лошади, как бригадир и управляющий, но в обратном направлении. Все мелкие и крупные начальники только разводили руками, мол, поздно уж, дело решённое. Оставался только директор совхоза. Тот оказался всё же человеком хорошим и, несмотря на происшествие с лошадиной сбруей, Якову уступил, наложив резолюцию в углу заявления: «Продать бывшему конюху Дуракову Я. Г. по цене мяса за многолетний труд». Марья Ширшачиха наложила сверх директорской свою устную резолюцию: «Сбагрили норовистую лошадь старому дураку Якову, потому что тот три дня на пузе перед новым директором елозил. И отвязаться от неё решили всего лишь потому, что с лошадью не стало сил мучиться, а до города доставить такую упористую скотину неисполнимо, да и во всём Дураково приколоть её на мясо никто из мужиков тоже не рискнул бы – она сама кого хошь первой укокошит».
Надежда Осипова
Интересная повесть о деревенской жизни. Красочный язык хорошо сочетается с юмором и честностью изложения. Текст читается на одном дыхании. Любовь, забавные приключения, увлекательные наблюдения о деревенской жизни, природа и вечные человеческие ценности…
Было весело в деревне…
Надежда Осипова
© Надежда Осипова, 2018
ISBN 978-5-4490-3109-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Судачат бабы у колодца…
Рассказ первый
Утром тёплого августовского понедельника деревенские бабы встречаются у колодца. Перебивая друг друга, спешат рассказать скопившиеся новости. Хотя торопиться им, собственно, пока некуда: скотину и мужиков уже проводили, одних на пастбище, других на работу, а теперь баста – законный женский перекур. Громче всех дерёт горло Марья, по прозванию Ширшачиха:
– Истинную правду говорю вам, бабоньки. Утопил Витька Кузнецов свой новенький «Беларусь» в болоте за Крутой горой. Как есть утопил, даже трубы не видать. Сёдни бригадир Иван Бабанин искать утопленный «Беларусь» поедет. Сама слыхала, как он молодняк с собой зазывал – пернатых энтих друзей неразлучных – Васю Гусева и Петю Уточкина. Нырять. Вы, грит им, в подводниках служить хотите, вот и привыкайте под водой обитать.
– Куда нырять? Никогда слыхом не слыхивала, чтобы в болото люди за трактором ныряли. Марья, ты часом не рехнулась? Да и сроду никаких болот за Крутой горой не бывало, – возражает ей бабка Верша. – Мы в войну там косили, сено ставили… Плёса большие были, спору нет, тёмные, смотреть в них страшно. Подле бережку купались всё же, труху сенную да пыль смывали… А болот возля нашего Дуракова отродясь не бывало. Без комарья вольно спокон веков деревня живёт.
– Ну, а сам Витька-то Кузнецов игде? – не утерпев, подгоняет соседку Дарья Супруниха.
– Дак в вытрезвитель загремел, ещё вчерась свезли. В этом, как его… в Афгане-то, говорят, Витьку шибко контузило, когда долг воинский отдавал, а тут ещё и напился. Бабы рассказывали, что ругался он страшно, с топором на всех кидался, вот и свезли.
Марья ужасается собственной выдумке про топор и вытрезвитель. Хлопает руками по крутым бёдрам, хватается в страхе за цветастый головной платок. Рядом на глиняном взъёмчике валяются её коромысло и вёдра. Чуть поодаль лёгкий ветерок балуется с подсыхающим репейником, то кружа ему колючие головы, то перегибая недужные листья задом наперёд. Когда, наконец, ветерок понимает, что развеселить хворый репей ему не удастся, то с размаху плюхается в пыль рядом с развалившейся возле забора курицей. Та испуганно кудахчет. К курице ревниво спешит молодой петух с большим красным гребнем. Ветерок в мгновение ока вскакивает, со свистом бросаясь от петуха наутёк. От столь быстрого передвижения в воздухе образуется вертящийся вовнутрь небольшой кружок вихря.
Мимо проходит во всём обмундировании телятница Танька Мулютина:
– Здорово, бабоньки. За кого сегодня переживаете?
Танька смеётся. И телячий наряд – литые сапоги со старым линялым халатом не портят её яркой красоты. Танька оглядывается, весело машет им рукой, озорно напевая:
Спорят бабы у колодца,
Чей мужик быстрей сопьётся.
Молвит бледная девица:
– Мой уж спился, лёг лечиться.
Бабы молча недобрыми завистливыми глазами смотрят вослед. Когда Танька сворачивает к своему дому в Безымянный переулок, начинают и ей прополаскивать косточки.
– Говорят, с перепою только очухалась. По родине тоскует, сказывают, по Чернобылю своему. Пьёт, курит, с чужими мужиками вожжакается, и ничё ведь ей не деется. Только красивше, лахудра, стаёт, – зло судит Ширшачиха.
– Да она же после Чернобыля, бабы бают, как это… мутанткой стала, – не отстаёт в вымыслах и Супруниха.
– Экие вы, черноротые, – плюётся бабка Верша. – Вся деревня знает, что Танька не пьёт и не курит, да и мужиков к себе не приваживает. Весь день-деньской в работе, семьища-то, шутка сказать, сама пятая, а работница-то одна. Старые да малый… И жисть заново начала, все пожитки тамотка побросали. Горе-то какое, страшное горе сколь народу постигло, – причитает бабка Верша.
– А ты чё за неё горой стоишь? Сама-то давно праведницей стала? А кто мужику твоему, Егору, перцу едучего в штаны подсыпал, когда он к Анне на свиданку бегал? Не ты ли это, Вера Лаврентьевна? Его-то быстро выходила, все причендалы ему спасла, а она, Анна-то, вдова солдатская, с ожогом сколь крутилась, считай, заживо сгнила? До самой смертушки тебя за три улицы обходила, – взялась костерить бабку Вершу и Дарья Супруниха. – А к Таньке твоей даже дед Петя Капут кажин вечер ходит, сама видала, и моему Ивану она глазки строит…
Бабка Верша не утерпела. Засмеялась. Наклонившись к околоколодезной глине, нацепила на коромысло полные ведра с прозрачной водой, да пошла, плавно переступая, через дорогу ко двору, крепенько прижимая дужки покачивающихся ведёр к коромыслу. Шагов через пять всё же бросила через плечо:
– Я свою семью в войну спасала, кормильца возля нажитых нами четверых детей удерживала. Бабы одинокие, вдовы которые, моего Егора по косточкам бы растащили, кабы не сражалась против них. А твой-то… Да кому он нужен, сморчок, соплёй прибить… Какой с него толк аль прибыток. Ни в постель, ни на работу… В базарный день за гривенник ни одна баба не возьмёт. Лентяй и пьянчуга. А дед Петька Капут к кому хошь пойдёт, даже к вам, чтобы про свой танк «Иосиф Сталин» рассказать, только уши поширше растопырьте.
Супруниха хотела броситься вслед за бабкой Вершей, чтобы выстрелить ей в спину напоследок дурным словом, но помешал нёсшийся на полном ходу сочного голубого колера новый трактор «Беларусь». За рулём сидел Витька Кузнецов, трезвый, в целости и сохранности. Ширшачиха из столбняка вышла первой:
– Отпустили, видать, голубчика. Начальство совхозное выпросило его из отсидки, – на ходу начала сочинять свежую историю. Про утопленный и возвращённый трактор быстро придумать ничего не смогла, смолчала, тут большее время требовалось.
Внимание баб вновь переключилось на Таньку. Та, переодевшись уже во всё чистое, с хозяйственной сумкой поспешала вдоль дороги в противоположном от них направлении. В магазин, – единодушно решили бабы. Талоны на водку отоварить, чтобы не пропали.
– Вот к чему Таньке талонов сразу на восемь бутылок водки кажин месяц в сельсовете выдают, – от души возмущалась Дарья Супруниха. – А ведь в семье у неё в рот никто капли не берёт. Бабки на дух пойло не переносят, а сама Танька только пригубит, еслив в компании когда…
Зависть Супрунихи первобытной силой сразу перенесла Таньку из забубенной пьянчужки в непреклонную трезвенницу.
– Это ж сколько доброго для семьи можно сотворить с такой валютой? Ни один мужик не шелохнётся, с места не сдвинется, ежели бутылку ему за работу не предложишь. А с Танькиным водочным запасом по полену ей из самого дальнего колка дров на три зимы мужики натаскают за выпивку – не унималась Дарья.
– А наши-то мужья-дураки сами все водочные талоны выжирают, до дому не успеваешь донести, – в сердцах бросила Марья, громко брякая пустым ведром по колодезному срубу, рывками опуская ручку скрипящего ворота. Бабы от обиды на своих мужиков разом смолкли, будто безотложно вспомнив, что пришли к колодцу этим утром они по делу, за водой.
Где тонко, там и рвётся…
Рассказ второй
Танька Мулютина и в самом деле спешила в магазин отоварить оставшиеся августовские талоны, хозяйственные и продуктовые, чтобы не пропали – в сентябре на них в магазине уже ничего не дадут. Сахар, водка, стиральный порошок и мыло были нынче позарез ей нужны, а вот лапшу с мышиными какашками выкупила лишь для порядка – соседу Якову Григорьевичу отдаст на прикорм борова Бориса, не по-осеннему костлявого от неутомимой уличной сутолоки.
Таньке всегда казалось, что её судьба складывается по случайностям, нелепым, глупым или трагическим, но уж никак не по собственной воле. Вот и сейчас она уже третий год как оказалась на жительстве со всем своим престарелым семейством в деревне Дураково по трагической Чернобыльской случайности. А в Чернобыль их занесло уже по нелепой случайности: её старшая сестра Валька попервоначалу попала туда по медицинскому распределению – окончила институт, а потом перетащила их к себе поближе – нянчиться с нажитыми ребятишками. Валька с мужем устроились на хорошие оклады, и им до зарезу понадобились бесплатные няньки. Сама Танька замужем никогда не бывала – Костя у неё сураз, нагульный. Притащила в подоле по глупости, как не раз говорила мать Устинья, да две престарелые тётки – Фёкла и Матрёна. На роду у Мулютиных счастье в списках, похоже, не значилось: Устинья родила Вальку и Таньку уже в перезрелом для девки возрасте, девчонок отец признал, удочерил, но как-то уж очень быстро после запоздалой свадьбы переместился на кладбище. А Фёкла и Матрёна вовсе замуж не выходили, их жениховский возраст поубивало на войне, так что Костя Мулютин воспитывался в полном матриархате, как любил говаривать их ближайший сосед Дураков Яков Григорьевич. По причине сплошной невезучести старшая сестра Валька, с малолетства расчухав это обстоятельство, старалась всегда действовать хитро и нахраписто, не допуская глупых и нелепых случайностей, хотя трагические в её жизни всё же проскальзывали. Вот и теперь она сбагрила мать и тёток к Таньке в деревню, а сама с мужем и ребятишками обосновалась в семидесяти от них километрах – в городе. И к родным наезжала только по выгоде – за дармовыми продуктами, картошкой, мясом и зеленью.
Выкупив водку, сахар и мыло с порошком, Танька рванулась в обратный путь до дома. Как ни старалась, не могла припомнить, когда она хаживала по деревне не спеша, вразвалку. Всё бегом да бегом, как борзая собака на охоте. Вот и теперь продохнуть некогда, наметила сегодня перемыть полы в доме – бабки совсем устарели, к домашней работе, которая в наклон, почти непригодны стали, а после надобно сызнова поторапливаться на совхозный телятник, чтобы напоить, накормить телятишек, да подстилку им переменить. Два телёнка в её телячьей группе болеют уж с неделю как, ещё не совсем оправились, надо будет поить их сначала травяным отваром, а потом молоком из алюминиевого бидона с соской, как малышей. И мордочку вытирать полотенцем после кормления, как малым детям. Не зря бабы на телятнике говорят: «На работе – телята, а дома – ребята». Без любви на такой работе – никак. А завтра ещё солонее день выпадает – телят будут взвешивать. Конец месяца всегда такой хлопотный. Танька работает на ферме подменной телятницей. Заменяет товарок, которые в отпуске, либо болеют. Летом куда легче было – работала на выпасах с молодняком, а теперь опять в младшую группу попала. Зойка Степанова в отпуск выпросилась – у неё двое сыновей-школьников, – проследить, направить их на учёбу надо. У Таньки Костя тоже в этом году в школу пойдёт в первый класс, сама в отпуск хотела, чтобы честь по чести проводить, на линейке постоять. За себя и за придуманного ею папу-героя-лётчика, который «погиб» на северном полюсе, потому как и могилки у него нету. Всё про героического папу продумала, до мелочей просчитала, даже детдом в ребячестве ему приписала, чтобы и родни у погибшего героя не оказалось, хотела Костю от материного позора уберечь, с детской поры не ранить греховностью, которая выпала ей как глупая случайность. Сын пока верит мамкиным красивым сказкам, а потом… вырастет. Может, поймёт да пожалеет мать, а может, и укорять станет, что безотцовщиной одна его поднимала.
Своей статью, молодостью и красотой притягивала она внимание не только деревенских мужиков, но и бабы ревнивых глаз с неё тоже не спускали: куда пошла Танька, какое платье надела, с кем и о чём говорила – имели о подобных мелочах доскональные подробности, как будто следом за ней по всему дню хаживали. И сплетни вокруг её имени создавались тоже нешуточные. Стояли как-то раз телятницы в совхозной конторе в кассу за зарплатой. Их бригадир Захар Плотников долго ходил по кабинетам, а потом поделился своей озабоченностью:
– Врач сердечный в районной поликлинике прописал мне совет – на курорт съездить, или, на худой конец, в дом отдыха, чтоб передышку себе от работы устроить хоть недельки на две…
Танька пребывала в глубокой задумчивости, подсчитывала семейную нужду и деньги, куда и на что их потратить, а потому, не особо подумав, ненароком и брякнула:
– Мне кажется, Захар Иванович, что с худым концом в доме отдыха делать нечего…
Шутке посмеялись, но уже к вечеру вся деревня знала, что Танька забраковала телячьего бригадира Захара Плотникова. Значит, располагает персональными сведениями, – постановили бабы в один голос. А Захар весь вечер и половину ночи оправдывался перед женой за тайную связь. Сама Танька уже почти привыкла, что деревенские бабы по утрам у колодца укладывают её собственными домыслами в постель с женатыми мужиками по совершенно голословным причинам.
Замуж один разок выйти ей всё же пришлось, хоть и не по своей воле, но мужниной женой пробыла ровно два с половиной дня, – это когда скотник Ванька Косой к ней посватался и в дом к себе позвал жить. Бабки в три голоса принудили, выходи да выходи, мужик рядом будет, баню им построит, стайку тёплую для скотины поставит, да пол в кухне перестелет. Танька, скрепя сердце, ради близкой своей родни согласилась. Но в замужестве с первого часу у неё всё из рук валилось, за какое бы дело ни бралась. Пересиливала себя. Плакать себе не позволяла, слёзы сдержать старалась, а улыбаться сразу перестала. С окаменевшим лицом по дому бродила. День терпела, ночь терпела. Потом ещё день и ещё ночь. А в обед поднялась из-за стола и ушла домой, даже суп не дохлебавши. Не смогла. За мужика в деревне без любви нельзя идти, потому как в семье все дела надо сообща вершить. А как работу ладить, когда с души воротит. И ночью лицом к стенке спать тоже тяжело, лучше одной как-нибудь. Без бани и без сарая. Зато без душевного обмана, со светлой радостью и спокойным сном. А дома-то мать и тётки опять в три голоса точить стали, что да почему, назад отправляют к Ваньке в дом возвертаться. Танька сносила долго ругань старух, с месяц ещё и их терпела, а потом возьми и скажи, что к такому мужу, как Ванька Косой, в придачу увеличительное стекло бабе надо в первую же ночь выдавать. Как кто подслушал, и чужих близко никого не видно было, а уже назавтра к обеду вся деревня знала, что Танька, как на телескоп денег накопит, так к Ваньке и вернётся. Его даже бабка Верша у колодца пожалела: «Надо же, – говорит, – таким инвалидом уродиться, косой, да ещё и в штанах пусто, вот горе-то какое». Ванька беспробудно запил, а Танька опять на всю деревню прославилась. Так с той поры и зареклась она замуж без любви выходить, мужиков ни за что ни про что гробить.
В любой обстановке, хоть глупой, хоть трагической, старалась Танька добротой к людям спасаться. А от повальной серости будней защищалась радостным настроем – смеялась, когда душа плакала, да пела песни и весёлые частушки. Иногда даже пыталась сама подбирать слова так, чтобы получалась хорошая песня, которая освобождала бы душу от боли. Когда что-то не ладилось, либо захлёстывала обида, чтобы не давать человеку сгоряча сдачи, сочиняла частушки-нескладушки, да распевала их в дороге либо на работе, пока не наступало глубокое успокоение. «Лучше смеяться сквозь слёзы, выглядеть полной дурой и петь глупые частушки, чем казаться умной и доводить людей до трясучки, а потом до полуночи исходить стыдом за ответную злобу», – вывела как-то раз Танька свою простенькую жизненную философию. Так и жила. Открыто, с улыбкой, песней и частушкой на все случаи жизни, какие выпадут, хоть нелепые, хоть глупые, хоть и трагические. Когда её спозаранку бабы на телятнике спрашивали, как идут дела, она им в ответ лишь шутливо распевала:
На луну я волком выла:
Как же дальше буду жить?
Выла, выла и решила:
Надо мне на всё забить!
Анархия, Вельветка, Маркиз и прочие…
Рассказ третий
Сосед Яков Григорьевич позвал Таньку на будущей неделе съездить в дальний Калиновый колок побрать шиповника, да заготовить метёлок на зиму. Его лошадь, по кличке Анархия, характер имела до того скверный, что хуже некуда, и упряжем ходить, хоть с телегой, хоть с санями, попросту брезговала. Людям Анархия повиновалась с большим трудом, жила по своей воле, и всегда творила, что хотела. Запрячь её можно было лишь долгими уговорами, потчуя хлебными корочками после каждой подвижки с упряжью. К хлебному угощению её приучил Яков Григорьевич, но и его она слушалась через раз. А поскольку другие конюхи и скотники с рёвом и злобным матом от неё во всякий день отказывались, то именно ему и выпадало годами с ней работать, но уже по другой причине – его чересчур покладистого характера. Когда Яков Григорьевич уволился из совхозных конюхов на пенсию, то и Анархию из-за непочтительного норова, на конюшне оставлять тоже не захотели. Коллективно умаявшись после его ухода с непокорной лошадью, единодушно предпочли следом за Яковом и её списать – отправить в городской мясокомбинат на колбасу.
Сказано – сделано. Конюхи написали совместную докладную бригадиру, бригадир изготовил в свою очередь бумагу для управляющего Заречным отделением, а тот уже со всей «документацией» поспешил к главному зоотехнику. Отправить на мясо не старую ещё лошадь у главного зоотехника рука всё же не поднялась, и он двинул стопы в кабинет директора. В деревне Дураково, где находилась центральная усадьба совхоза «Путь коммунизма», как говаривала Марья Ширшачиха, директора менялись сезонно, – зима, лето, осень, весна, либо поквартально, как карта ляжет. Всё зависело от погодных условий. Не успевали сельчане запомнить имя директора, а его уже снимало с работы верхнее районное начальство, как не справившегося либо с посевной, либо с уборочной, причина находилась всегда. Новый директор сел в кресло неделю назад, и так скоро терять не согретое ещё место из-за сомнительного, на его взгляд, списания здоровой рабочей лошади не хотел, поэтому вник в мельчайшие подробности лошадиной истории. Представленным бумагам не поверил, и потому возымел желание съездить на конюшню, чтобы самолично познакомиться с Анархией. Он попросил бригадира запрячь кобылу у него на глазах. Двое конюхов хомут на шею Анархии кое-как продёрнули, седёлку на спину тоже как-то накинули, но набросить на лошадиный зад шлею уже не смогли. Лошадь поначалу лягалась, кусалась, вставала на дыбы, а потом, когда обыденная колготня ей поднадоела, разметав упряжь и конюхов по скотному двору, ускакала на волю. Потрясенный директор, выпутавшись из прилетевшей на него конской сбруи, от пережитой жути смог выдохнуть только одно слово:
– Списать.
Когда Яков Григорьевич прознал, что его Анархию скоро свезут на скотобойню, то сразу побежал по начальству с просьбой о продаже. Лошадиная история повторилась, Дураков Яков проделал тот же путь по списанию лошади, как бригадир и управляющий, но в обратном направлении. Все мелкие и крупные начальники только разводили руками, мол, поздно уж, дело решённое. Оставался только директор совхоза. Тот оказался всё же человеком хорошим и, несмотря на происшествие с лошадиной сбруей, Якову уступил, наложив резолюцию в углу заявления: «Продать бывшему конюху Дуракову Я. Г. по цене мяса за многолетний труд». Марья Ширшачиха наложила сверх директорской свою устную резолюцию: «Сбагрили норовистую лошадь старому дураку Якову, потому что тот три дня на пузе перед новым директором елозил. И отвязаться от неё решили всего лишь потому, что с лошадью не стало сил мучиться, а до города доставить такую упористую скотину неисполнимо, да и во всём Дураково приколоть её на мясо никто из мужиков тоже не рискнул бы – она сама кого хошь первой укокошит».