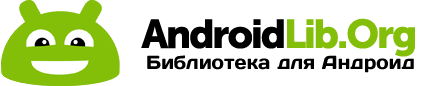\'Прости…\' - Януш Вишневский
?Прости…
Януш Леон Вишневский
Януш Вишневский вновь рассказывает нам пронзительную историю любви и драматическую историю жизни – на этот раз от лица мужчины. Внезапно открывшаяся измена жены толкает мужа на отчаянный и страшный шаг. Слепая жажда мести, роковые выстрелы – и жизнь Винсента уже никогда не будет прежней. Как простить предательство, пережить утрату и возможно ли искупить тяжкий грех одним лишь раскаянием? Но даже из такой темной безысходности Вишневский вновь выводит нас к свету – он глубоко убежден, что Любовь сильнее смерти.
Сюжет книги основан на реальных событиях – в 1991 году в Кракове был застрелен Анджей Зауха, популярный джазовый певец и музыкант. Спутница музыканта Зузанна Лесьняк скончалась в машине «скорой помощи» по дороге в госпиталь. Обоих застрелил муж Зузанны. Януш Вишневский пересказывает эту трагическую историю в своей непревзойденной манере – исследуя души, глубоко погружаясь в человеческие чувства.
Януш Вишневский
Прости…
Janusz Leon Wisniewski
I ODPUSC NAM NASZE…
© Copyright by Janusz Leon Wisniewski 2015
© Copyright by Od Deski Do Deski, Warszawa 2015
© Чайников Ю., перевод, 2016
© ООО «Издательство АСТ», издание на русском языке, 2016
* * *
Вот уже пятнадцать лет его преследует один и тот же сон…
Сначала тишина. Абсолютная, оглушающая. Ее внезапно разрывает пронзительный свист: вдали поднимается столб пыли, закручивается в вихре, серым туманом просачивается сквозь кусты и долетает до парковки. Огибает машины, свивается в кольца, поднимается, падает, делится на части, а потом снова собирается в клубок, раздувается, разрастается. И в тот самый момент, когда добирается до нее, мрачная туча останавливается и превращается в лениво вертящийся и клонящийся во все стороны конус изо льда и снега. Конус вертится все быстрее и быстрее, трещит, хрустит, грохочет, рвется в клочья, рассыпается, словно петарда, искрами и медленно угасает, опадая на нее белоснежным кружевом свадебного платья.
И тогда раздаются выстрелы. Три выстрела. Или четыре. Он инстинктивно зажмуривается, втягивает голову в плечи, зажимает уши, пригибается и в страхе падает на бетонные плиты парковки. Тут же вскакивает и бросается наутек и, лишь заметив, что к нему приближаются две женщины, останавливается. Женщина в черной юбке и расстегнутой черной кожаной куртке сначала идет медленно, вытянув вперед руки, потом прибавляет шаг и наконец переходит на бег, бежит что есть сил к нему навстречу, бежит и кричит:
– Вин, не делай этого! Вин, умоляю тебя! Вин!
А та, вторая, в своем только что сотканном из тумана платье, молитвенно сложив ладони, так наклоняется вперед, что того и гляди упадет. Мгновение спустя она расцепляет ладони, ее руки безвольно падают вдоль тела и болтаются как у повешенной. На гладком шелке платья, над правой грудью появляется складка. Поначалу маленькая, почти невидимая, но с каждой секундой становящаяся всё больше и больше, она краснеет, наливается, разбухает и вдруг прорывается, как надрезанный острым скальпелем нарыв. Брызжущая кровь льется широкими струями по платью. Он подбегает к женщине и хватает за руки, не давая ей упасть. А она смотрит ему в глаза и кротко улыбается. Беззвучно шевелит губами. Он медленно садится на выщербленную мостовую, кладет ее голову к себе на колени, пытаясь ладонями унять кровь, с бульканьем хлещущую из огромной рваной раны. В тот же миг его пронизывает острая боль. Он стискивает зубы, чтобы не закричать, поднимает голову: другая женщина, та, что в черной кожаной куртке, спотыкается о его выставленные ноги и падает, со всего маху ударяясь головой о бетонные плиты. Чуть позже она пытается встать и – то на четвереньках, то ползком – добраться до большой белой машины, около которой лежит мужчина. Он лежит бездвижно на левом боку, его ноги неестественно вывернуты, глаза открыты, в них удивление. В двух-трех шагах от него, чуть левее, еще один мужчина. Этот стоит. В вытянутой вперед руке держит какую-то продолговатую штуковину, обернутую в блёклый пластиковый пакет из супермаркета. Слышится шорох пакета, резкий лязг металла, за которым следуют несколько выстрелов. Голова лежащего перед машиной при каждом попадании в нее пули подскакивает, еще шире открываются его выражающие безграничное удивление глаза, а после – беспомощно упавшая на плечо голова взрывается, брызжа во все стороны струями красно-ржавой маслянистой взвеси из крови, ошметков мяса, прядей волос и осколков костей. Потоки этой жуткой жижи вырываются из обезглавленного тела мужчины и собираются в ручей, постепенно заливающий всю парковку. Кровянистая волна с хлюпаньем добирается до стоящей на коленях женщины в черной куртке, и та утыкается лицом в мостовую. Какое-то время слышится ее громкое прерывистое сопение, сменяющееся жалобным стоном и завершающееся хрипами. Потом наступает мертвая тишина, которую разрезает оглушительный вопль:
– Боже-е-е!!!
И только тогда он просыпается: весь в поту, содрогаясь в конвульсиях, словно эпилептик, отчаянно пытаясь заткнуть уши, он как безумный впивается зубами в подушку, одеяло, простыню или матрас…
Вот и сегодня опять тот же сон, опять те же видения – всё такие же яркие и подвижные, всё так же потрясающие воображение. С той лишь разницей, что после всех этих лет само пробуждение стало другим. Сейчас это происходит значительно быстрее, практически моментально. Он научился улавливать сознанием момент пересечения границы между сном и реальностью. А еще он научился быстро унимать конвульсии, затыкая себе рот подушкой, одеялом или рукой. Он пробуждается от этого сна весь в поту, с ощущением ужаса, как всегда внезапно, но – главное (с некоторых пор для него это стало самым главным) – почти бесшумно. Он не закрывает глаза, не бежит куда-то в темноту зажмурившись. Нет. Он сразу фиксирует свой взгляд на свете ночника, без которого вот уже много лет он не ложится спать. Он давно заметил, что на внезапный яркий свет он реагирует так же, как запертые в клетке и жестоко истязаемые научными экспериментами хомячок или мышка реагируют на поражение током от прикрепленного к их голове электрода: застывает в абсолютной неподвижности, не издавая ни звука.
Давным-давно, еще в вонючей от сырости камере следственного изолятора, он после такого пробуждения, когда проходили конвульсии и затихало его невнятное бормотанье, долго пребывал в каком-то дурмане. Одеревеневший, неподвижный, уставившийся в одну точку на стене, не реагирующий ни на голос, ни на крик, ни на тряску за плечи, ни даже на обливание холодной водой. Полная отключка. Поначалу он пугал разбуженных сокамерников своими припадками, сменявшимися продолжительным, абсолютно для них непонятным трупным небытием. Когда же наконец он приходил в себя и начинал соображать, где находится, что здесь делает, и в очередной раз выслушивал в подробностях рассказы о том, «как он клёво только что отрывался», он, как мальчик, который только что получил нагоняй, прятал взгляд, что-то бормотал в свое оправдание и долго извинялся.
Трудно приходится болезненно и неизлечимо терзаемому угрызениями совести, да еще такому умному – каковым его считали сокамерники – в обычной жизни, а уж в камере стократ труднее, особенно когда душевные муки не дают спать по ночам. В одну из таких ночей он стал невольным свидетелем разговора соседей по нарам, а вернее, монолога одного из них, самого пожилого заключенного в камере, с самым большим сроком, Антека-Остро-Стёклышко. А звали его так потому, что когда-то в припадке пьяной ярости он осколком оконного стекла перерезал горло мужу своей сестры, когда она, очередной раз отметеленная до потери чувств, с сотрясением мозга, с вышибленным глазом, отбитыми почками и порванной селезенкой, оказалась в больнице и через неделю, не приходя в сознание, умерла. Трудно было поверить, что пан Антоний – воплощение смирения, миролюбия и бесконечной доброты – мог кого-то стеклом да по горлу. Неторопливый, флегматичный, прежде чем что-нибудь сказать, он долго раздумывал. А если говорил, то медленно и очень тихо, чуть ли не шепотом. Тем не менее все слушали его внимательно, и никто не отваживался прервать. И еще одна особенность: в речи своей он никогда не переходил на феню (и это было странно, если учесть, как долго он находился за решеткой), хотя прекрасно ее знал. Писем он не получал, на свидания его не вызывали. Ну и в споры он никогда не влезал, а когда его задевали или иногда, чисто чтоб спровоцировать, специально оскорбляли, он не реагировал и, как правило, уходил в дальний угол камеры с газетой или книгой и читал. Совершенно нереально представить себе, что такой человек мог кому-то перерезать горло. Но все было именно так. Говорили, что Антек-Остро-Стёклышко так долго и сосредоточенно резал горло своего зятька, что стекло остановилось только на какой-то кости. Так он даже не заметил, как отрезал себе половину большого пальца и почти весь указательный. Видать, хотел удостовериться, что этот гад копыта откинул. Говорили, что, прежде чем начать отрезать голову, он то ли оглушил, то ли убил зятя кайлом, кастрировал его и только потом принялся резать горло. А еще ходили легенды, что, прежде чем уложить покойника в гроб, трупу пришили голову, чтобы попал на тот свет в более или менее целом виде. Когда легавые на следующий день прикатили к нему домой – потому что дело было ночью, – то увидели седого как лунь мужика. Протрезветь еще не успел, а вот поседел очень даже основательно. Так говорили. И это было чистой правдой, даже несмотря на то, что каждый раз этот случай каждый новый рассказчик излагал по-своему: вроде то же самое, только каждый раз – новый рассказ, новая история. Тем не менее факт остается фактом: у Антека-Остро-Стёклышко на месте большого и указательного пальцев были обрубочки и через всю правую ладонь проходил толстый шнур рваного шрама, а уж седым он был таким, что седее, кажется, и не бывает.
У Антека была одна-единственная сестра, опекуном которой он стал после смерти родителей. Когда она появилась на свет, он был уже, можно сказать, взрослым. Ему было тогда семнадцать лет, и он учился в техникуме на автомеханика. По окончании техникума его призвали в армию, в подразделение, дислоцированное в Колобжеге. У родителей был загородный садовый участок с домиком, где они часто оставались на ночь. Конец октября в тот год выдался особенно холодным, поэтому родители перед тем, как лечь спать, разожгли чугунную печку. А не знали того, что выведенная наружу труба забита листвой. Антек, как раз в то воскресенье получивший увольнительную, нашел их уже холодными. Угорели. А сестренке Мартинке тогда было только три годика. Его комиссовали как «единственного опекуна в семье», хоть и не очень хотели это делать и раз за разом отклоняли его ходатайства. «Капрал Антоний П. – лучший механик в бригаде, принимает активное участие в поддержании автопарка нашего подразделения в боевой готовности, что существенно влияет на повышение уровня обороноспособности нашей Родины и вносит вклад в обеспечение ее безопасности». Вот к какому мудреному патриотическому вранью прибегали в корреспонденции с командованием округа, к которому относилась часть в Колобжеге. Копии этих посланий ему вручали на перекличке. Он не знал, что регулярные и по первому вызову ремонты разбитого «полонеза» командира части имеют что-то общее с «безопасностью Родины». Вопрос решительно закрыло Управление социального страхования (УСС), которое быстро сообразило, что «затраты на выплату родительской пенсии и помещение малолетней сестры страхователя в учреждение социальной опеки значительно превышают затраты на пребывание страхователя в воинском подразделении». Патриотизм и «полонез» генерала проиграли в битве с одним-единственным письмом всемогущего УСС, и таким образом капрал Антоний П. совершенно неожиданно морозным декабрьским утром был отправлен генералом (тем, у которого «полонез») в запас. УСС понимало, что не отбоярится от долголетних выплат родительской пенсии, но каким-то таинственным образом узнало о прошениях капрала Антония П. и моментально подсчитало, что может прилично сэкономить на возможных будущих расходах, если «материальную опеку над ребенком примет на себя один из родственников или свойственников». Подсчитать всё это было не таким уж трудным делом, потому что капрал Антоний П. в своих рапортах в качестве единственной причины просьбы о выходе в запас приводил свое решение принять опекунство над своей малолетней сестрой. До сих пор неизвестно, каким образом работники УСС получили доступ к рапортам капрала Антония П., которые сами по себе формально считаются военной тайной. Не менее загадочным было и то, что рядовой служащий по части страхования смог повлиять на приказы, отдаваемые генералом польской армии.
* * *
Не только Антек-Остро-Стёклышко был быстро вычислен УСС. Как-никак он польский гражданин, и в случае польского гражданина это в какой-то мере понятно. С первых дней пребывания в Польше, когда это была еще Польская Народная Республика (Винсент научился писать это название без ошибок и произносить без акцента еще во Франции – для большей уверенности – перед визовым собеседованием в польском посольстве в Париже), Винсент убедился в том, что польское УСС – удивительно четко работающее учреждение. Во всяком случае во всем том, что касается слежки, ибо во многом другом оно было и по сей день остается катастрофически беспомощным. Но зато его сотрудники сидят в роскошных дворцах, окруженных большими охраняемыми парковками для шикарных представительских лимузинов. В этом отношении французский URSSAF – аналог польского УСС – может тихо отойти в сторонку. Когда он, скромный, а если уж совсем точно – бедный, стипендиат прибыл в 1987 году в рамках польско-французского обмена из Нанта в Краков, чтобы учиться в краковской Государственной Высшей театральной школе, он лично убедился в том, что УСС видит всё. В первое время он жил по гостиницам или ночевал у разных знакомых, по самым разным адресам. Но это только первые три недели, потому что потом он снял однокомнатную квартиру в панельном доме в одном из пролетарских районов Кракова, в Новой Гуте. В один прекрасный день в театр – а тогда как раз шли репетиции – заявились два здоровяка в черном. Их сопровождала пожилая стройная седовласая женщина. Качки в черном работали в УСС, а женщина оказалась привлеченной для этого случая переводчицей. Ребята держались уверенно, по-хозяйски, она же была очень смущена, чтобы не сказать, что испытывала чувство жгучего стыда. При активном участии всех задействованных в репетиции актеров и приведенной в театр переводчицы ему пришлось заполнить многостраничный формуляр. Почувствовал себя преступником, когда его публично, при всех обвинили в «систематическом уклонении от выплаты страховых взносов путем систематического невыполнения обязанности регистрироваться по месту проживания». Парни из УСС долго ему объясняли, что такое их организация, что это ни в коем случае не польский аналог КГБ и поэтому нечего бояться, что это очередная «польская паранойя». А стало быть, и нет нужды звонить во французское посольство с просьбой о правовой помощи.
– Это после всего-то неполных трех недель по приезде в Польшу?! Избегает?! Систематически?! Люди, придите в себя, мать вашу! У вас, видать, совсем крышу снесло. Да и вообще, кто вас впустил сюда?! – вдруг услышал он громкий голос, доносившийся из зала, с задних рядов.
На сцене воцарилась тишина. Он повернул голову и увидел стоявшую на ступеньках у последних кресел партера молодую женщину. В собранные в пучок темные волосы воткнуты солнцезащитные очки, в руке – черная кожаная куртка, через плечо – зеленая брезентовая сумка. Она быстро спустилась по ступенькам, уверенно подошла к обоим мужчинам в черном и, встав перед ними в бойцовскую стойку (ну, разве что руки в карманах вельветовых брюк), сказала:
– По какому такому праву все кому не лень шатаются по театру? Это позволено только пожарным, да и то по специальному разрешению директора театра. Или госбезопасности. Ну, эти могут вообще всё, даже без разрешения. Но если бы вы были ими, то, скорее всего, оказались бы в бюро «Солидарности» на третьем этаже, а не здесь. А может, весь этот ваш УСС только крыша? Может, вы, господа, по поводу страховки социализма на театральных подмостках, а? Нехорошо получается, господа, очень нехорошо, – продолжила она с хорошо поставленной иронией в голосе. – Не даете возможности трудовой интеллигенции нормально работать, чтобы было чем заплатить вам взносы на свои будущие мизерные пенсии и чтобы рабочий класс мог встретиться с настоящим искусством. Этим я хочу уважаемых господ раз и навсегда проинформировать, что спектакли для публики, не исключая сотрудников УСС и госбезопасности, мы играем по вечерам, о чем все культурные люди в Кракове знают еще с конца войны. К тому же, да будет вам известно, этот театр застрахован с незапамятных времен. Впрочем, без всякой пользы для себя, зря страховали: за кражу со взломом из реквизиторской – а это имело место еще тогда, когда я ходила сюда студенткой первого курса – то есть бог знает когда, – вы не заплатили до сих пор.
Оба мужчины, совершенно ошарашенные этой неожиданной тирадой и взрывами хохота, долетавшего со сцены, попритихли. Один из них спрятал листки заполненного формуляра в коричневую папку и, не говоря ни слова, направился к боковому выходу рядом со сценой. Второй что-то зло шепнул переводчице, с ненавистью взглянул на стоявшую перед ним девушку, развернулся и последовал за коллегой. В этот момент со сцены грянул гром аплодисментов.
Переводчицу никто не просил, но все это время она, повинуясь профессиональной привычке, нашептывала ему на ухо перевод монолога девушки. Он помнит, какое воодушевление он испытал, восхищаясь смелостью молодой женщины. Он повнимательнее всмотрелся в нее и понял, что где-то раньше ее видел. Может, на улице, может, в трамвае, может, в столовой, а может, где-нибудь в коридорах театральной школы, которая была не такой уж и большой.
То, что разыгралось перед его глазами, прекрасно вписывалось в тот образ поляков, какой он взлелеял в себе за все эти годы. Непокорные, своенравные, независимые, всегда в непримиримой оппозиции к системе, в которой им приходится жить и работать. Они ни перед кем не склоняли головы, никогда не лезли в подданство, не считая веков их порабощения, неволи, разделов или ликвидаций их государства. Когда с забастовок в Гданьске началась эта беспрецедентная польская «августовская революция», ему было двадцать лет. Внезапно французские СМИ – радио, телевидение, газеты – запестрели словом «Solidaritе», а через несколько месяцев практически все сменили его на хрустяще-шипящее труднопроизносимое польское слово «Solidarnosc». Потому что это последнее значило гораздо больше, чем просто солидарность. Переведенное на французский слово «солидарность» переставало передавать сущность и значение невиданного до сей поры явления, которое стояло за ним. Перевод лишал слово силы, а явление – свойственной ему символики. Некоторые вещи остаются в памяти и вызывают соответствующие ассоциации лишь тогда, когда они правильно названы. Одни эмоции вызывает слово «поцелуй» и совершенно другие – «французский поцелуй». А тогда все вдруг в его родном Нанте нацепили на лацканы пиджаков и на кофточки значки «Солидарности», прикрепляли к своим авто наклейки с самыми разными текстами, часто не имеющими ничего общего с «Солидарностью», но написанные красной «солидарицей», как в обиходе называли шрифт, представляющий собой опирающиеся друг на друга и стоящие тесным рядком буквы, которые, кажется, неудержимо устремились вперед. Польша и «Солидарность» воспринимались во Франции как две сестры, а виды гданьской судоверфи и польских улиц в телевизионных репортажах и на фотографиях с первых полос газет лишь укрепляли всех в этом мнении.
Вот эти-то картинки и распаляли его воображение. То, что происходило в Польше, стало для него с некоторых пор чем-то вроде сценария, писанного на его глазах рукой Истории, сценария монументального действа, поставленного на сцене Жизни без репетиций.