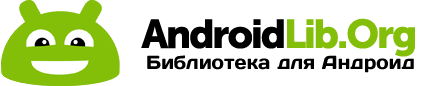AndroidLib » Читалка
Путешествия по розовым облакам
Путешествия по розовым облакам
Владимир Викторович Рунов
«Путешествие по розовым облакам», повествование, исполненное в привычной для автора форме, где личное, связанное с прожитым временем, тесно увязывается с событиями на фоне жизни всего общества, при этом затрагивая самое чувствительное – эпоху разрушения советского строя.
Автор не уходит от попыток понять причинность нарастания государственного тектонического разлома, на которой пришлась молодость героя этой книги.
Убедительность авторских доводов во многом определяет литературная стилистика произведения, как и во всех книгах этого писателя обладающая большой литературной привлекательностью.
Рунов Владимир Викторович
Путешествия по розовым облакам
© В.В. Рунов
* * *
Слоями розовыми облака опадали.
Вечер стих, но птицы еще не пели…
(Михаил Кузмин, ноябрь 1917 года)
За месяц до этого в России свершилась Октябрьская революция, после чего Кузмин писать перестал. Первого марта 1936 года, за полгода до «большого террора», он умер. Слава Богу, своей смертью. Учитывая заслуги видного поэта Серебряного века, его решили упокоить в Ленинграде, на Литературных мостках, где хоронят самых заслуженных людей. Но после войны могилу перенесли, освобождая место под мемориал семьи Ульяновых…
Позднее известный питерский правовед (уже не товарищ, а господин) Анатолий Собчак, возвративший городу его историческое название, возмечтал переместить туда и прах Ленина, причем тоже под первородным именем. Но не успел…
Вот это партитура!
Смею Вас уверить, дорогой читатель, что для нас, молодых, послевоенный мир в значительной степени открывался при активном участии кино. Да-да, именно многогранного советского кино, где правда и вымысел порождали в подростковой среде удивительную гармонию отроческих иллюзий, с которыми мы вступали в жизнь, так много чего обещавшую.
Кино, будоражив всех и вся (уже ведь цветное пошло), яркими красками убеждало юность, что все самое трудное (а значит и плохое), позади. Да и по многому видно было! На смену мрачно-загадочному вождю в военной фуражке, которого знали только по портретам, пришел живой, лунообразный балагур в шляпе лопухом, обещавший «златые горы», горячо вколачивая в общественное сознание, что ничего лучше, чем советский строй человечество и не рождало.
Самое интересное, верили! Никита Сергеевич, в отличие от Иосифа Виссарионовича, был такой земной, особенно когда рассуждал о варениках в сметане или принародно обнимался с передовиками сельского хозяйства. Например, с колоритной старушенцией по фамилии Заглада.
Я только начинал сотрудничать на краевом телевидении, как вдруг на крайкомовском «Зиле» в нашу вечернюю программу везут саму, что ни на есть живую Загладу. Она уже гремела по стране в образе народного трибуна и вещала не столько об урожаях (хотя и тут много чего было), сколько драла глотку за советскую власть на некой смеси украинского и русского, этаком простецком суржике, пока однажды не ляпнула на всю страну:
– Где то видано, шоб я, деревенская старуха, да с самим царем обнималась!
Хрущев хохотал громче всех…
– Мужики! – гремела она с трибуны партсъезда, потрясая сухоньким кулачком. – Бросайте лопатиться на своих огородах, идите ковать благополучие страны на бескрайних колхозных полях!
После этакого речитатива первым в президиуме вскочил Хрущев и начал восторженно бить в ладоши. Понятно, что кремлевский зал тоже поднялся и ответил долгой и несмолкающей овацией, криками во славу Родине и партии. Хрущев, придя в восторг от звонких призывов «простой советской крестьянки» (помните, как в фильме «Член правительства»: «мужем битая, попами пуганая, врагами стреляная»), тут же присвоил ей звание Героя труда, громогласно объявив зачинателем нового патриотического движения. Звали ту Загладу не то Надежда Григорьевна, не то Наталья Григорьевна – сейчас уже и не помню.
Так вот, представляете себе тихий воскресный вечер на Краснодарской студии телевидения, находящейся тогда в окружении соломенных крыш зачуханной городской окраины. В эфире очередная нудьга провинциального изготовления о неустанной борьбе за урожай. Мы тогда варились в собственном соку, никакого Центрального телевидения в помине не было, поскольку релейку еще только тянули. Немногочисленный персонал лениво посматривал на часы: «Еще минут сорок и по домам!»
Вдруг по коридору мчится дежурный редактор с перекошенным лицом:
– Ребята! К нам едет крайкомовское начальство! – вопит на все подкрышное пространство.
– Как! Зачем?!
– Представляете, саму Загладу везут для выступления…
– Загладу! – выдохнули хором.
И тут началось! Что такое начальственный аврал на периферийном телевидении – словами не передать! Это когда все орут, мечутся и панической суетой пытаются избежать кары, если насупленным «дядькам из крайкома» что-то покажется не так.
– А как? Вы подскажите, мы из шкуры вылезем! – читается по авральным перемещениям с этажа на этаж. На первом студия, над ней – аппаратная… Туды-сюды, туды-сюды, и все бегом! Как аврал на боевом корабле – «Свистать всех наверх!»
И вот, наконец, сквозь предупредительно распахнутые ворота, возле которых вытянулся заранее оповещенный «страж» (объект-то почти секретный), во двор властно заруливает огромный, угольно-черный «членовоз». Дежурный редактор, точнее редакторша, Лена Ривлина, скрывавшая рубежный возраст за входящим в моду начесом, что в данной ситуации придавало ей вид «безумной Греты» из сказок братьев Гримм, помчалась встречать гостей, словно топиться в находящемся неподалеку озере Карасун.
Пока суть да дело, центр паники перемещается в верхнюю аппаратную, куда доставляют от скуки слегка приснувшего, а перед этим чуть-чуть выпившего дежурного режиссера Виктора Николаевича Малышева, достойного отдельного описания. Дело в том, что на ТВ Виктор Николаевич, занимая должность постановщика музыкальных программ, до недавнего времени к телевидению никакого отношения не имел, поскольку большую часть творческой биографии провел в казачьем хоре.
Еще по средней школе я помню, как в клубе завода измерительных приборов, в ослепительно белой черкеске со всеми прибамбасами, включая здоровенный кинжал и кубанку с алым верхом, он выходил на сцену и начинал протяжно петь:
Как за реченькою, за Кубанушкою,
Там казак коня пас, полынь-травушку рвал.
Полынь-травушку рвал, на огонюшек клал,
На огонюшек клал, свои раны засыпал…
В это время из-за кулис, осторожно звеня шпорами, выходили сотоварищи, тоже в черкесках, но уже алых и, прижав кубанки к груди, подхватывали с пронзительным подвывом:
Умирал казак, да приказывал:
– Уж ты, конь, ты, мой конь, друг-товарищ дорогой!
Полети, конь, домой по дорожке столбовой…
И так далее… Скажу вам, получалось очень впечатляюще. Даже заводская зиповская многотиражка подчеркивала: «Как всегда, проникновенен был солист, неповторимый Виктор Малышев…»
Все бы любо, да беда в том, что Виктор Николаевич не только превосходно пел, но и много пил. Вот по этой причине и оказался однажды на краевом телевидении, куда крайком ссылал всех творчески одаренных пьяниц. Если бы только одаренных…
Малышев долго не мог понять, чего от него хотят, а поняв, поскольку на тот момент оказался по должности самым ответственным, стал орать пуще всех, пытаясь взять ситуацию под контроль. Сидеть на управляющем пульте, ему, правда, не приходилось, особенно в режиме сиюминутности, но выручил опытный и находчивый ассистент Валька Егоров. Тоже, кстати, слегка поддатый, поскольку пили они всегда вместе. Он быстро сообразил, что пару светильников и не менее трех камер надо выставить на угловую выгородку. По его команде туда уже тащили хлипкий трехножный столик, кресло и из дикторской даже прихватили цветы, которые первой красавице края Вале Бароновой чуть ли не всякий вечер присылал какой-то ее полубезумный почитатель.
В это время гримеры (тогда на ТВ такие мастера еще имелись) трудились над лучезарным обликом выдающейся советской новаторши. Надо подчеркнуть, что Заглада к той поре уже хорошо владела достоинствами своего «имиджа», поэтому не позволила его разрушать, тем паче столь привлекавший «царя-батюшку», то бишь Хрущева. Сама повязала ситцевый «скромный платочек», словно собиралась в поле на прополку подсолнухов или свеклы, и, прицыкнув на девок, нацелившихся было окропить ее голову лаком, повелительно сказала:
– Окстись! Пидымо до миста…
Через много лет тот образ с точностью повторили в «Бурановских бабушках». Тоже кто-то ловкий на посконном деревенском облике сорвал не только бурные аплодисменты, но и немалые «бабки», что обычно к тому прилагаются.
Наконец, снизу из павильона доносится команда: «Тишина в студии!»
Аппаратная тоже замерла…
– Давай! – тяжко дохнул перегаром Малышев, и в ту секунду Валька тронул заветную кнопку…
То, что появилось на экране, вызвало… Онемение? Нет! Обалдение! Только один Малышев в оглушающей тишине и смог протянуть восхищенным шепотом:
– Мама родная, вот это партитура!..
Знаменитость от горла до пояса, вкривь и вкось была усыпана орденами, медалями и прочими знаками всяческой доблести, сверкая, как благочинный в Храмовый день.
Я опускаю, как с горящими глазами, в основном на мове, она несла восторженную ахинею, где «наш Никитушка» звучало как ударный рефрен. Что-то вроде хорового припева…
Потом, правда, когда Никиту Сергеевича товарищи по партии с должности, мягко говоря, попросили «выйти вон», в публичную силу с дерзостью редкой вступал Вова Высоцкий, отмечая в одной из ранних баллад:
Сидели, пили вразнобой
«Мадеру», «старку», «зверобой» –
И вдруг нас всех зовут в забой, до одного:
У нас – стахановец, гагановец,
Загладовец, – и надо ведь,
Чтоб завалило именно его…
Песня называлась «Случай в шахте», но в пору моей юности времена выглядели все-таки привлекательно, особенно для прытких, которых всякое утро советское радио пыталось звать в неизведанную даль.
Едем мы, друзья,
В дальние края,
Станем новоселами
И ты, и я…
Ну, и конечно же, причем без всякого призыва: «В кино!..» Я и сейчас помню любимый кинотеатр моей школьной юности. Это «Гигант» в Хабаровске, куда, прогуливая уроки, мы с друзьями вприпрыжку бежали смотреть всякий новый фильм, терпеливо выстаивая длиннющую очередь за билетами. Даже летом, ибо Хабаровск в ту пору предпочитал загорать на левом берегу Амура, но приверженцев кинематографа все равно набиралось изрядно.
Пятьдесят шестой год, распечатавший второе послевоенное десятилетие, начался для советского народа (уже три года как без Сталина) торжественным обещанием нового правительства жить не только дружно, но и, как всегда, весело. Подчеркну, что то обещание стало осуществляться прямо с боем новогодних курантов. У меня по сию пору в ушах звенит бесконечная в своей вещей простоте песенка про «Пять минут». Бездна времени прошла, но всякое Новогодье на телеэкране снова и снова неповторимая и незабываемая миловидная девочка с беленькой муфточкой в руках задорно поет:
…Пять минут, пять минут,
Бой часов раздастся вскоре.
Помиритесь те, кто в ссоре…
* * *
Новый год недалек,
Пожелать хочу вам счастья.
Вот сидит паренек,
Без пяти минут он мастер…
* * *
Без пяти, без пяти,
Но ведь пять минут немного.
Он на правильном пути,
Хороша его дорога…
И так далее… В простенькой девчушке с неправдоподобно осиной талией абсолютно ничего не говорило, что через годы она станет великой русской актрисой Людмилой Марковной Гурченко. Как, впрочем, ничто и не свидетельствовало, что никому не известный дебютант со странным именем Эльдар займет место в ряду кинохудожников мирового уровня. Кино же то называлось, проще придумать невозможно, – «Карнавальная ночь»…
Мог ли я тогда даже мечтать, что через множество лет, на другом конце планеты, в самый разгар душной черноморской ночи буду брать интервью у корифея отечественного кинематографа, тучного и мрачного человека с нездоровым оплывшим лицом. Он скользил равнодушным взглядом по цветастой суете Анапского кинофестиваля, куда экранная элита дежурно съезжалась, чтобы оттянуться в пору, о которой местный пиит восторженно возопил:
А на Кубани осень золотая!..
Не уверен, что облитый глазурью всеобщего почитания Эльдар Александрович Рязанов, уже заслуженный-перезаслуженный, лауреат и народный артист, разделял эти восторги. Я полагаю, что прожитая жизнь давила его не столько тучностью тела, сколько мятежностью духа. Судя по всему, у него не было никакого желания вступать в разговор с неизвестным ему провинциальным журналистом, и на мои вопросы он отвечал односложно, машинально откручивая янтарные ягодки от спелой виноградной грозди, лежащей перед ним на влажном фестивальном проспекте. О «Карнавальной ночи» говорить не захотел:
– Ой, да я так много чего об этом уже наговорил, – вяло махнул рукой. Почитайте где-нибудь.
Но книгу, что я принес с собой, подписал, даже испросив мое имя – «Владимиру Викторовичу с добрыми пожеланиями. Эльдар».
Я храню ее бережно, часто наугад открывая на разных страницах. Сейчас, когда отечественное кинопроизводство идет «своей дорогой», ужасно колдобистой и к тому же далеко в стороне от настоящего киноискусства, воспетого неповторимым Эльдаром, мы еще и еще раз ощущаем всю горечь его потери.
Хотя и признать надо, что «розовые облака», куда мощью своего неуемного таланта он поднимал всех нас, были всего лишь цветастым миражом, этаким «веселящим газом». Там, в Анапе, уже немало поживший и еще больше переживший, к тому же не очень здоровый Эльдар Александрович Рязанов, я думаю, лучше всех понимал, что поставленная им в пору большущих надежд «Карнавальная ночь» уже никогда не повторится – ни на экране, ни тем более в жизни. Даже в Анапе, «царстве счастливого детства», куда мемориальные звезды прошлого охотно съезжались всякую осень. В сущности, чтобы в предпоследний, а часто даже в последний раз посмотреть друг на друга, вспомнить лучшее. С каждым следующим «Киношоком» их было все меньше и меньше, пока не исчезли вовсе, один за другим уйдя в вечность…
Вот эта печальная реальность для людей моего поколения была и остается непреходящим шоком, особенно, когда на Новый год снова и снова звучит и воскрешает навсегда канувшее простенькая, как зимняя поземка, песенка «Про пять минут». Ни Эльдару Рязанову, ни Люсе Гурченко, ни Игорю Ильинскому, ни Сергею Филиппову, ни десяткам других замечательных киноволшебников, воистину народных, замены нет. И не предвидится! Куда ни повернешься, везде мармеладный брюнет Данила и его многочисленные клоны, в окружении бритоголовых «быков», свободно разгрызающих засолидоленные амбарные замки. К тому же поголовно вооруженные общенародным пистолетом Макарова, основным предметом, поддерживающим драматургическое развитие киносюжетов, которые нынче называются полупонятным английским словом «экшен».
Вместе с ним, то есть экшеном (что в переводе означает «действие»), цугом идут еще менее понятные «шутеры», «файтинги», «платформеры» и примкнувшие к ним «квесты» – наше сегодняшнее киновсе. Это и переуродовало замечательное, доброе и сердечное отечественное кино в бесконечный заокеанский боевик. На их языке все это называется «аркадные игры». А если нашими словами, то нарочито примитивный игровой процесс с большим количеством трупов. Вот и играем, как с огнем. А раз на экране, то в жизни тоже…
Эх, хороша была дорога!
Существует довольно распространенное заблуждение, что во времена социализма, особенно развитого, самые непотребные разговоры советские люди вели на домашних кухнях. Это не так! Точнее, не совсем так…
Самые откровенные, аполитичные диалоги (да и монологи тоже) звучали в гаражах, то есть в гаражно-строительных кооперативах, как правило, находящихся где-нибудь на городском отшибе. В семидесятые годы ГСК постепенно стали превращаться в некие стихийные мужские сообщества, стремившиеся обрести личную свободу от нудного семейного быта, со стареющими женами, вечно живыми тещами, проблемными детьми и неукротимыми домашними заботами, где мужик всегда неправ, поскольку все делает ни так и ни эдак.
И тогда, как стареющий лев, он уходил из прайда в свое собственное логово, где под видом заботы о породненном навеки «Москвиче» (чуть позже «Жигулями») начинал обустраивать новую жизнь, вольную и свободную от всякого диктата, в том числе и власти.
Особенно в теплые сезоны, когда с устатку, никого не спрашивая, можно завалиться на любимый обмятый топчан, да среди расставленного, развешенного, разложенного и любовно подобранного инструмента, который кто ни попадя не лапает. Вдыхать запах сладко пахнущих канистр, особенно когда смотришь по мутноглазому телевизору ту передачу, что нравится (а не про огородные заботы или тележурнал «Здоровье», любимое занятие тещи, гори она ясным сном!). А по вечерам неторопливо общаться с дружбанами и не слышать понуканий, воплощенных в бессмертном фильме «Покровские ворота» в образе неугомонной Маргариты Павловны: «Савва Игнатьевич, не пора ли, милый друг, в магазин? – или того хуже, – Савва, ты не забыл, сегодня Орловичи должны придти?..» – и прочее в том же духе.
Волком завоешь! Здесь же в гаражной укромности так славно, а главное, покойно! Вечерком, под конец дня, наполненного смыслом, на картонных ящиках из-под хозяйственного мыла, заботливо накрытых свежей газеткой, непременно товарищеское застолье. Огурчики собственного засола, колбаска ветчино-рубленная по рубль девяносто, свеженькая из соседнего гастронома. Булочки городские (по постановлению парторганов почему-то переименованные из «французских», видать, что-то тогда с Францией не поделили), заботливо поломанные на хрустящие кусочки. Здесь же пельмешки горяченькие, только-только с керогаза, в кастрюльке дюралевой мятой. Хоть и фабричные, но со знаком качества (без всяких нынешних дураков и обманок) приготовления Краснодарского мясокомбината. Лучок-чесночок огородные, селедочка бочковая по сорок семь копеек за кило, да под разварную молодую картошечку, посыпанную свежим укропчиком.
Ко всему этому великолепию обязательно пара трехлитровых «стекляшечек» свежего пивка, за которым гоняли аж на Седина, в ларек городского пивзавода. Ну и конечно, по «маленькой», чаще кустарного изготовления. По этой части в подворьях, что обычно окружали городские ГСК, без труда можно было сыскать старушек-мастериц, что из дворовой дармовой алычи добывали сорокапятиградусный напиток такой прозрачности и аромата, что после первой душа начинала петь, а после третьей язык молол черти что. Ну, конечно, и про состояние общества. Все больше в плане дискуссий с телевизором, где в одной единой программе показывали «все о Брежневе и немного о погоде». А «гадостей» набирались из «Голоса Америки», что тайно гундел из-под слесарного верстака, заваленного всяким ненужным хламом.
А вы говорите – на кухне! В гаражах, бывало, звучали такие определения и выводы, что мороз по коже. Причем вся полемика, включая и опасную, велась с применением забористой лексики, чрезвычайно выразительной, поскольку компании были исключительно мужские, и, если кого или что-то не принимали, то в выражениях обычно не стеснялись.
Владимир Викторович Рунов
«Путешествие по розовым облакам», повествование, исполненное в привычной для автора форме, где личное, связанное с прожитым временем, тесно увязывается с событиями на фоне жизни всего общества, при этом затрагивая самое чувствительное – эпоху разрушения советского строя.
Автор не уходит от попыток понять причинность нарастания государственного тектонического разлома, на которой пришлась молодость героя этой книги.
Убедительность авторских доводов во многом определяет литературная стилистика произведения, как и во всех книгах этого писателя обладающая большой литературной привлекательностью.
Рунов Владимир Викторович
Путешествия по розовым облакам
© В.В. Рунов
* * *
Слоями розовыми облака опадали.
Вечер стих, но птицы еще не пели…
(Михаил Кузмин, ноябрь 1917 года)
За месяц до этого в России свершилась Октябрьская революция, после чего Кузмин писать перестал. Первого марта 1936 года, за полгода до «большого террора», он умер. Слава Богу, своей смертью. Учитывая заслуги видного поэта Серебряного века, его решили упокоить в Ленинграде, на Литературных мостках, где хоронят самых заслуженных людей. Но после войны могилу перенесли, освобождая место под мемориал семьи Ульяновых…
Позднее известный питерский правовед (уже не товарищ, а господин) Анатолий Собчак, возвративший городу его историческое название, возмечтал переместить туда и прах Ленина, причем тоже под первородным именем. Но не успел…
Вот это партитура!
Смею Вас уверить, дорогой читатель, что для нас, молодых, послевоенный мир в значительной степени открывался при активном участии кино. Да-да, именно многогранного советского кино, где правда и вымысел порождали в подростковой среде удивительную гармонию отроческих иллюзий, с которыми мы вступали в жизнь, так много чего обещавшую.
Кино, будоражив всех и вся (уже ведь цветное пошло), яркими красками убеждало юность, что все самое трудное (а значит и плохое), позади. Да и по многому видно было! На смену мрачно-загадочному вождю в военной фуражке, которого знали только по портретам, пришел живой, лунообразный балагур в шляпе лопухом, обещавший «златые горы», горячо вколачивая в общественное сознание, что ничего лучше, чем советский строй человечество и не рождало.
Самое интересное, верили! Никита Сергеевич, в отличие от Иосифа Виссарионовича, был такой земной, особенно когда рассуждал о варениках в сметане или принародно обнимался с передовиками сельского хозяйства. Например, с колоритной старушенцией по фамилии Заглада.
Я только начинал сотрудничать на краевом телевидении, как вдруг на крайкомовском «Зиле» в нашу вечернюю программу везут саму, что ни на есть живую Загладу. Она уже гремела по стране в образе народного трибуна и вещала не столько об урожаях (хотя и тут много чего было), сколько драла глотку за советскую власть на некой смеси украинского и русского, этаком простецком суржике, пока однажды не ляпнула на всю страну:
– Где то видано, шоб я, деревенская старуха, да с самим царем обнималась!
Хрущев хохотал громче всех…
– Мужики! – гремела она с трибуны партсъезда, потрясая сухоньким кулачком. – Бросайте лопатиться на своих огородах, идите ковать благополучие страны на бескрайних колхозных полях!
После этакого речитатива первым в президиуме вскочил Хрущев и начал восторженно бить в ладоши. Понятно, что кремлевский зал тоже поднялся и ответил долгой и несмолкающей овацией, криками во славу Родине и партии. Хрущев, придя в восторг от звонких призывов «простой советской крестьянки» (помните, как в фильме «Член правительства»: «мужем битая, попами пуганая, врагами стреляная»), тут же присвоил ей звание Героя труда, громогласно объявив зачинателем нового патриотического движения. Звали ту Загладу не то Надежда Григорьевна, не то Наталья Григорьевна – сейчас уже и не помню.
Так вот, представляете себе тихий воскресный вечер на Краснодарской студии телевидения, находящейся тогда в окружении соломенных крыш зачуханной городской окраины. В эфире очередная нудьга провинциального изготовления о неустанной борьбе за урожай. Мы тогда варились в собственном соку, никакого Центрального телевидения в помине не было, поскольку релейку еще только тянули. Немногочисленный персонал лениво посматривал на часы: «Еще минут сорок и по домам!»
Вдруг по коридору мчится дежурный редактор с перекошенным лицом:
– Ребята! К нам едет крайкомовское начальство! – вопит на все подкрышное пространство.
– Как! Зачем?!
– Представляете, саму Загладу везут для выступления…
– Загладу! – выдохнули хором.
И тут началось! Что такое начальственный аврал на периферийном телевидении – словами не передать! Это когда все орут, мечутся и панической суетой пытаются избежать кары, если насупленным «дядькам из крайкома» что-то покажется не так.
– А как? Вы подскажите, мы из шкуры вылезем! – читается по авральным перемещениям с этажа на этаж. На первом студия, над ней – аппаратная… Туды-сюды, туды-сюды, и все бегом! Как аврал на боевом корабле – «Свистать всех наверх!»
И вот, наконец, сквозь предупредительно распахнутые ворота, возле которых вытянулся заранее оповещенный «страж» (объект-то почти секретный), во двор властно заруливает огромный, угольно-черный «членовоз». Дежурный редактор, точнее редакторша, Лена Ривлина, скрывавшая рубежный возраст за входящим в моду начесом, что в данной ситуации придавало ей вид «безумной Греты» из сказок братьев Гримм, помчалась встречать гостей, словно топиться в находящемся неподалеку озере Карасун.
Пока суть да дело, центр паники перемещается в верхнюю аппаратную, куда доставляют от скуки слегка приснувшего, а перед этим чуть-чуть выпившего дежурного режиссера Виктора Николаевича Малышева, достойного отдельного описания. Дело в том, что на ТВ Виктор Николаевич, занимая должность постановщика музыкальных программ, до недавнего времени к телевидению никакого отношения не имел, поскольку большую часть творческой биографии провел в казачьем хоре.
Еще по средней школе я помню, как в клубе завода измерительных приборов, в ослепительно белой черкеске со всеми прибамбасами, включая здоровенный кинжал и кубанку с алым верхом, он выходил на сцену и начинал протяжно петь:
Как за реченькою, за Кубанушкою,
Там казак коня пас, полынь-травушку рвал.
Полынь-травушку рвал, на огонюшек клал,
На огонюшек клал, свои раны засыпал…
В это время из-за кулис, осторожно звеня шпорами, выходили сотоварищи, тоже в черкесках, но уже алых и, прижав кубанки к груди, подхватывали с пронзительным подвывом:
Умирал казак, да приказывал:
– Уж ты, конь, ты, мой конь, друг-товарищ дорогой!
Полети, конь, домой по дорожке столбовой…
И так далее… Скажу вам, получалось очень впечатляюще. Даже заводская зиповская многотиражка подчеркивала: «Как всегда, проникновенен был солист, неповторимый Виктор Малышев…»
Все бы любо, да беда в том, что Виктор Николаевич не только превосходно пел, но и много пил. Вот по этой причине и оказался однажды на краевом телевидении, куда крайком ссылал всех творчески одаренных пьяниц. Если бы только одаренных…
Малышев долго не мог понять, чего от него хотят, а поняв, поскольку на тот момент оказался по должности самым ответственным, стал орать пуще всех, пытаясь взять ситуацию под контроль. Сидеть на управляющем пульте, ему, правда, не приходилось, особенно в режиме сиюминутности, но выручил опытный и находчивый ассистент Валька Егоров. Тоже, кстати, слегка поддатый, поскольку пили они всегда вместе. Он быстро сообразил, что пару светильников и не менее трех камер надо выставить на угловую выгородку. По его команде туда уже тащили хлипкий трехножный столик, кресло и из дикторской даже прихватили цветы, которые первой красавице края Вале Бароновой чуть ли не всякий вечер присылал какой-то ее полубезумный почитатель.
В это время гримеры (тогда на ТВ такие мастера еще имелись) трудились над лучезарным обликом выдающейся советской новаторши. Надо подчеркнуть, что Заглада к той поре уже хорошо владела достоинствами своего «имиджа», поэтому не позволила его разрушать, тем паче столь привлекавший «царя-батюшку», то бишь Хрущева. Сама повязала ситцевый «скромный платочек», словно собиралась в поле на прополку подсолнухов или свеклы, и, прицыкнув на девок, нацелившихся было окропить ее голову лаком, повелительно сказала:
– Окстись! Пидымо до миста…
Через много лет тот образ с точностью повторили в «Бурановских бабушках». Тоже кто-то ловкий на посконном деревенском облике сорвал не только бурные аплодисменты, но и немалые «бабки», что обычно к тому прилагаются.
Наконец, снизу из павильона доносится команда: «Тишина в студии!»
Аппаратная тоже замерла…
– Давай! – тяжко дохнул перегаром Малышев, и в ту секунду Валька тронул заветную кнопку…
То, что появилось на экране, вызвало… Онемение? Нет! Обалдение! Только один Малышев в оглушающей тишине и смог протянуть восхищенным шепотом:
– Мама родная, вот это партитура!..
Знаменитость от горла до пояса, вкривь и вкось была усыпана орденами, медалями и прочими знаками всяческой доблести, сверкая, как благочинный в Храмовый день.
Я опускаю, как с горящими глазами, в основном на мове, она несла восторженную ахинею, где «наш Никитушка» звучало как ударный рефрен. Что-то вроде хорового припева…
Потом, правда, когда Никиту Сергеевича товарищи по партии с должности, мягко говоря, попросили «выйти вон», в публичную силу с дерзостью редкой вступал Вова Высоцкий, отмечая в одной из ранних баллад:
Сидели, пили вразнобой
«Мадеру», «старку», «зверобой» –
И вдруг нас всех зовут в забой, до одного:
У нас – стахановец, гагановец,
Загладовец, – и надо ведь,
Чтоб завалило именно его…
Песня называлась «Случай в шахте», но в пору моей юности времена выглядели все-таки привлекательно, особенно для прытких, которых всякое утро советское радио пыталось звать в неизведанную даль.
Едем мы, друзья,
В дальние края,
Станем новоселами
И ты, и я…
Ну, и конечно же, причем без всякого призыва: «В кино!..» Я и сейчас помню любимый кинотеатр моей школьной юности. Это «Гигант» в Хабаровске, куда, прогуливая уроки, мы с друзьями вприпрыжку бежали смотреть всякий новый фильм, терпеливо выстаивая длиннющую очередь за билетами. Даже летом, ибо Хабаровск в ту пору предпочитал загорать на левом берегу Амура, но приверженцев кинематографа все равно набиралось изрядно.
Пятьдесят шестой год, распечатавший второе послевоенное десятилетие, начался для советского народа (уже три года как без Сталина) торжественным обещанием нового правительства жить не только дружно, но и, как всегда, весело. Подчеркну, что то обещание стало осуществляться прямо с боем новогодних курантов. У меня по сию пору в ушах звенит бесконечная в своей вещей простоте песенка про «Пять минут». Бездна времени прошла, но всякое Новогодье на телеэкране снова и снова неповторимая и незабываемая миловидная девочка с беленькой муфточкой в руках задорно поет:
…Пять минут, пять минут,
Бой часов раздастся вскоре.
Помиритесь те, кто в ссоре…
* * *
Новый год недалек,
Пожелать хочу вам счастья.
Вот сидит паренек,
Без пяти минут он мастер…
* * *
Без пяти, без пяти,
Но ведь пять минут немного.
Он на правильном пути,
Хороша его дорога…
И так далее… В простенькой девчушке с неправдоподобно осиной талией абсолютно ничего не говорило, что через годы она станет великой русской актрисой Людмилой Марковной Гурченко. Как, впрочем, ничто и не свидетельствовало, что никому не известный дебютант со странным именем Эльдар займет место в ряду кинохудожников мирового уровня. Кино же то называлось, проще придумать невозможно, – «Карнавальная ночь»…
Мог ли я тогда даже мечтать, что через множество лет, на другом конце планеты, в самый разгар душной черноморской ночи буду брать интервью у корифея отечественного кинематографа, тучного и мрачного человека с нездоровым оплывшим лицом. Он скользил равнодушным взглядом по цветастой суете Анапского кинофестиваля, куда экранная элита дежурно съезжалась, чтобы оттянуться в пору, о которой местный пиит восторженно возопил:
А на Кубани осень золотая!..
Не уверен, что облитый глазурью всеобщего почитания Эльдар Александрович Рязанов, уже заслуженный-перезаслуженный, лауреат и народный артист, разделял эти восторги. Я полагаю, что прожитая жизнь давила его не столько тучностью тела, сколько мятежностью духа. Судя по всему, у него не было никакого желания вступать в разговор с неизвестным ему провинциальным журналистом, и на мои вопросы он отвечал односложно, машинально откручивая янтарные ягодки от спелой виноградной грозди, лежащей перед ним на влажном фестивальном проспекте. О «Карнавальной ночи» говорить не захотел:
– Ой, да я так много чего об этом уже наговорил, – вяло махнул рукой. Почитайте где-нибудь.
Но книгу, что я принес с собой, подписал, даже испросив мое имя – «Владимиру Викторовичу с добрыми пожеланиями. Эльдар».
Я храню ее бережно, часто наугад открывая на разных страницах. Сейчас, когда отечественное кинопроизводство идет «своей дорогой», ужасно колдобистой и к тому же далеко в стороне от настоящего киноискусства, воспетого неповторимым Эльдаром, мы еще и еще раз ощущаем всю горечь его потери.
Хотя и признать надо, что «розовые облака», куда мощью своего неуемного таланта он поднимал всех нас, были всего лишь цветастым миражом, этаким «веселящим газом». Там, в Анапе, уже немало поживший и еще больше переживший, к тому же не очень здоровый Эльдар Александрович Рязанов, я думаю, лучше всех понимал, что поставленная им в пору большущих надежд «Карнавальная ночь» уже никогда не повторится – ни на экране, ни тем более в жизни. Даже в Анапе, «царстве счастливого детства», куда мемориальные звезды прошлого охотно съезжались всякую осень. В сущности, чтобы в предпоследний, а часто даже в последний раз посмотреть друг на друга, вспомнить лучшее. С каждым следующим «Киношоком» их было все меньше и меньше, пока не исчезли вовсе, один за другим уйдя в вечность…
Вот эта печальная реальность для людей моего поколения была и остается непреходящим шоком, особенно, когда на Новый год снова и снова звучит и воскрешает навсегда канувшее простенькая, как зимняя поземка, песенка «Про пять минут». Ни Эльдару Рязанову, ни Люсе Гурченко, ни Игорю Ильинскому, ни Сергею Филиппову, ни десяткам других замечательных киноволшебников, воистину народных, замены нет. И не предвидится! Куда ни повернешься, везде мармеладный брюнет Данила и его многочисленные клоны, в окружении бритоголовых «быков», свободно разгрызающих засолидоленные амбарные замки. К тому же поголовно вооруженные общенародным пистолетом Макарова, основным предметом, поддерживающим драматургическое развитие киносюжетов, которые нынче называются полупонятным английским словом «экшен».
Вместе с ним, то есть экшеном (что в переводе означает «действие»), цугом идут еще менее понятные «шутеры», «файтинги», «платформеры» и примкнувшие к ним «квесты» – наше сегодняшнее киновсе. Это и переуродовало замечательное, доброе и сердечное отечественное кино в бесконечный заокеанский боевик. На их языке все это называется «аркадные игры». А если нашими словами, то нарочито примитивный игровой процесс с большим количеством трупов. Вот и играем, как с огнем. А раз на экране, то в жизни тоже…
Эх, хороша была дорога!
Существует довольно распространенное заблуждение, что во времена социализма, особенно развитого, самые непотребные разговоры советские люди вели на домашних кухнях. Это не так! Точнее, не совсем так…
Самые откровенные, аполитичные диалоги (да и монологи тоже) звучали в гаражах, то есть в гаражно-строительных кооперативах, как правило, находящихся где-нибудь на городском отшибе. В семидесятые годы ГСК постепенно стали превращаться в некие стихийные мужские сообщества, стремившиеся обрести личную свободу от нудного семейного быта, со стареющими женами, вечно живыми тещами, проблемными детьми и неукротимыми домашними заботами, где мужик всегда неправ, поскольку все делает ни так и ни эдак.
И тогда, как стареющий лев, он уходил из прайда в свое собственное логово, где под видом заботы о породненном навеки «Москвиче» (чуть позже «Жигулями») начинал обустраивать новую жизнь, вольную и свободную от всякого диктата, в том числе и власти.
Особенно в теплые сезоны, когда с устатку, никого не спрашивая, можно завалиться на любимый обмятый топчан, да среди расставленного, развешенного, разложенного и любовно подобранного инструмента, который кто ни попадя не лапает. Вдыхать запах сладко пахнущих канистр, особенно когда смотришь по мутноглазому телевизору ту передачу, что нравится (а не про огородные заботы или тележурнал «Здоровье», любимое занятие тещи, гори она ясным сном!). А по вечерам неторопливо общаться с дружбанами и не слышать понуканий, воплощенных в бессмертном фильме «Покровские ворота» в образе неугомонной Маргариты Павловны: «Савва Игнатьевич, не пора ли, милый друг, в магазин? – или того хуже, – Савва, ты не забыл, сегодня Орловичи должны придти?..» – и прочее в том же духе.
Волком завоешь! Здесь же в гаражной укромности так славно, а главное, покойно! Вечерком, под конец дня, наполненного смыслом, на картонных ящиках из-под хозяйственного мыла, заботливо накрытых свежей газеткой, непременно товарищеское застолье. Огурчики собственного засола, колбаска ветчино-рубленная по рубль девяносто, свеженькая из соседнего гастронома. Булочки городские (по постановлению парторганов почему-то переименованные из «французских», видать, что-то тогда с Францией не поделили), заботливо поломанные на хрустящие кусочки. Здесь же пельмешки горяченькие, только-только с керогаза, в кастрюльке дюралевой мятой. Хоть и фабричные, но со знаком качества (без всяких нынешних дураков и обманок) приготовления Краснодарского мясокомбината. Лучок-чесночок огородные, селедочка бочковая по сорок семь копеек за кило, да под разварную молодую картошечку, посыпанную свежим укропчиком.
Ко всему этому великолепию обязательно пара трехлитровых «стекляшечек» свежего пивка, за которым гоняли аж на Седина, в ларек городского пивзавода. Ну и конечно, по «маленькой», чаще кустарного изготовления. По этой части в подворьях, что обычно окружали городские ГСК, без труда можно было сыскать старушек-мастериц, что из дворовой дармовой алычи добывали сорокапятиградусный напиток такой прозрачности и аромата, что после первой душа начинала петь, а после третьей язык молол черти что. Ну, конечно, и про состояние общества. Все больше в плане дискуссий с телевизором, где в одной единой программе показывали «все о Брежневе и немного о погоде». А «гадостей» набирались из «Голоса Америки», что тайно гундел из-под слесарного верстака, заваленного всяким ненужным хламом.
А вы говорите – на кухне! В гаражах, бывало, звучали такие определения и выводы, что мороз по коже. Причем вся полемика, включая и опасную, велась с применением забористой лексики, чрезвычайно выразительной, поскольку компании были исключительно мужские, и, если кого или что-то не принимали, то в выражениях обычно не стеснялись.