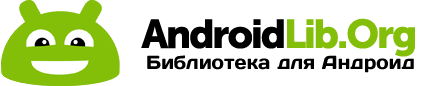\'Исцеляющая любовь\' - Эрик Сигал
?Эрик Сигал
Исцеляющая любовь
Самый фундаментальный принцип медицины есть любовь.
Парацельс (1493–1541). «Великое искусство хирургии»
Пролог
Среди них был только один темнокожий. И всего пять женщин.
Были яркие таланты, почти гении. Были гении, почти безумцы. Один имел за плечами опыт сольного виолончельного концерта в Карнеги-холле, другой целый год выступал в профессиональной баскетбольной лиге. Шестеро пробовали себя на литературном поприще, двое из них даже опубликовали по книге. Был один несостоявшийся священник. И недавний заключенный колонии для малолетних правонарушителей. И все они были до смерти напуганы.
В это ясное сентябрьское утро 1958 года они собрались в зале «D» медицинского факультета Гарвардского университета на торжественный сбор первокурсников. Им предстояло выслушать приветственное слово декана Кортни Холмса.
Черты его лица напоминали изображение на древнеримской монете. А манера держаться наводила на мысль, что в момент появления на свет его соединяла с материнской утробой не пуповина, а цепочка золотых часов.
Призывать к тишине ему не пришлось. Одна улыбка — и аудитория смолкла.
— Джентльмены! — начал декан. — Сегодня вы вместе пускаетесь в путешествие по просторам медицинской науки. На этом пути вам предстоят собственные открытия в малоизученном мире страданий и недугов. Кому-то из сидящих в этом зале, быть может, суждено найти средство от лейкемии, диабета, красной волчанки и раковых опухолей, разрастающихся подобно многоглавой гидре…
Он выдержал идеально рассчитанную театральную паузу.
— …а возможно, и от обыкновенной простуды.
В зале раздался одобрительный смех.
Седовласый декан наклонил голову, что, по всей видимости, означало глубокую задумчивость. Студенты, затаив дыхание, ждали, что будет дальше.
Когда декан наконец продолжил свою речь, голос его звучал тише и на октаву ниже.
— Позвольте мне в завершение своего напутствия поведать вам одну тайну, которую мне столь же неловко вам открывать, как вам — выслушивать.
Он повернулся к доске и что-то написал.
Две цифры — двойку и шестерку.
По рядам пробежал недоуменный ропот.
Холмс дождался тишины, набрал в легкие побольше воздуха и устремил взор в середину притихшего зала.
— Джентльмены, призываю вас высечь на скрижалях вашей памяти: в мире существуют тысячи заболеваний, но наука под названием медицина умеет лечить из них только двадцать шесть. Все остальное — наугад.
На этом речь декана была окончена. По-военному подтянутый, он сошел с подиума пружинящей походкой спортсмена и покинул зал.
Пораженная аудитория даже не аплодировала.
I
Пора невинности
1
Барни Ливингстон первым из всего Бруклина увидел Лору Кастельяно голой.
Как-то августовским утром пятилетний Барни бесцельно шатался по двору, когда его вдруг окликнул незнакомый голос:
— Привет!
Он обернулся в сторону соседского участка. Из-за ограды на него смотрела маленькая белокурая девочка примерно его возраста. Он вдруг ощутил укол тоски по прежним соседям. В той семье был мальчик Марри, потрясающе игравший в мини-бейсбол. А у новых соседей, он слышал, вообще нет сына.
Поэтому Барни был крайне удивлен, когда, представившись, Лора предложила ему сыграть в мяч. Он неуверенно пожал плечами и пошел за своим «инвентарем».
Когда через минуту он вернулся, сжимая в руке небольшой резиновый мячик цвета розовой жевательной резинки, девчонка уже стояла посреди их двора.
— Как ты сюда попала? — спросил он.
— А, перелезла через забор, — небрежно отмахнулась та. — Давай-ка начинай, бей повыше!
Естественно, Барни был несколько ошарашен происходящим, и потому бросок у него не получился, зато Лора ловким движением поймала мяч и с силой отбила его. Больше всего Барни поразило то, что Лора, по-видимому, с легкостью перемахнула через забор, который Марри преодолеть без посторонней помощи не мог, а ведь ему было целых семь лет!
Через полчаса разгоряченный игрой Барни пришел к выводу, что Лора прекрасно может заменить ему товарища по играм. Он полез в карман, достал пачку из-под сигарет «Лаки страйк» и протянул соседке.
— Нет, спасибо, — отказалась та. — Папа говорит, у меня на шоколад аллергия.
— Что такое аллергия?
— Точно не знаю, — призналась девочка. — Лучше нам спросить у моего papacito[1]. Он врач.
И тут ее осенило.
— Послушай, давай сыграем в больницу? Я буду доктор, а ты — пациент. Потом поменяемся.
— А как играть?
— Ну, сначала я тебя «обследую», потом — ты меня.
— Да ну, это скучно…
— Для этого надо будет раздеться.
— Правда?
Быть может, это не так уж и скучно!
Приемную устроили под старым дубом в дальнем углу сада Ливингстонов. Лора велела Барни снять полосатую рубашку поло, чтобы она могла его прослушать. «Обследовать». Это было проделано с помощью воображаемого стетоскопа.
— А теперь сними штаны!
— Зачем?
— Давай же, Барни, играй!
Он нехотя выступил из голубых шорт и теперь стоял в одних трусах, чувствуя себя довольно глупо.
— И это снимай! — приказала юная докторша.
Барни воровато оглянулся, дабы убедиться, что за ними не смотрят из дома, после чего снял с себя последний предмет одежды.
Лора внимательно его оглядела, уделив особое внимание маленькой висюльке между ног.
— Это мой краник, — пояснил Барни с некоторой гордостью.
— Больше похоже на пенис, — заявила она тоном специалиста. — Ладно, все в порядке. Можешь одеваться.
Он с готовностью повиновался, после чего Лора спросила:
— А теперь во что будем играть?
— Нечестно! Теперь моя очередь быть доктором!
— Пожалуйста.
Через мгновение она стояла перед ним совершенно раздетая.
— Ой, Лора, а что случилось с твоим… Ну, ты знаешь…
— У меня его нет, — задумчиво ответила девочка.
— Это как это? Почему?
В этот момент раздался требовательный голос:
— Ба-а-арни! Ты где?
Это мама звала его с заднего крыльца. Он поспешно прервал беседу и высунулся из-за дерева.
— Мам, я тут!
— Что ты там делаешь?
— Играю. С одним человеком.
— С кем же?
— С девочкой Лорой. Из того дома.
— А, новые соседи… Спроси, не хочет ли она молока с печеньем.
Из-за дерева показалось невинное личико.
— А какое печенье? — весело уточнила Лора.
— «Ореос» и «Фиг ньютоне», — с улыбкой пояснила миссис Ливингстон. — Ох ты, какая миленькая!
Это был рай их детства под названием Бруклин, наполненный радостными звуками — звоном трамваев, смешанным с позвякиванием колокольчиков на тележках с мороженым. А больше всего — смехом детей, играющих в дворовые разновидности бейсбола и баскетбола — и даже в хоккей на роликовых коньках прямо посреди улицы.
Шел 1942 год, и американцы были вовлечены в войну на три фронта: в Европе — против нацистов, на Тихом океане против полчищ японцев и дома, против Управления регулирования цен. Этот орган президент Рузвельт учредил специально для нормирования гражданского потребления товаров и продуктов первой необходимости, чтобы обеспечить всем лучшим своих солдат.
Так что, пока маршал Монтгомери воевал с Роммелем при Эль-Аламейне, а генерал-майор Джимми Дулитл бомбил Токио, в Бруклине Эстел Ливингстон билась за дополнительные мясные карточки, силясь обеспечить полноценное питание двум своим быстро растущим сыновьям.
Ее муж Харольд был призван на фронт год назад. Преподаватель латыни в старших классах школы, теперь он находился на военной базе в Калифорнии, где изучал японский. Своей семье он мог только сообщить, что служит в разведке. И это было закономерно, как объяснила детям Эстел, ведь в разведку всегда берут самых умных и образованных, а их папа как раз такой и есть.
По необъяснимой причине отец Лоры доктор Луис Кастельяно вообще не был призван.
— Барни, эта Лора — хорошая девочка? — спросила Эстел, запихивая в рот Уоррену, младшему сыну, очередную ложку каши.
— Очень даже. Мяч здорово ловит! Только говорит как-то смешно.
Это оттого, что их семья приехала из Испании, дорогой. Им пришлось оттуда бежать.
— Почему?
— Потому что плохие люди, которые называются фашистами, их невзлюбили. Поэтому наш папа сейчас и в армии. Чтобы победить этих фашистов!
— А у папы есть ружье?
— Не знаю. Но уверена, если оно ему понадобится, президент Рузвельт позаботится, чтобы оно у него было.
— Это хорошо! Тогда папа сможет всем плохим стрельнуть в пенис.
Библиотекарь по профессии, Эстел всей душой была за расширение словарного запаса сына. Но последнее его приобретение ошеломило ее.
— Дорогой, кто это тебе рассказал про пенисы? — как можно небрежнее поинтересовалась она.
— Лора. Ее папа — доктор. Хотя у нее самой его нет.
— Чего, детка?
— У Лоры нет пениса. Я ей сначала не поверил, но она мне показала.
Эстел лишилась дара речи. Она была в состоянии лишь размешивать кашу в тарелке и гадать, что же еще ему удалось узнать.
Со временем Барни и Лора перешли к более содержательным играм. Вроде «ковбоев и индейцев» или «янки и джерри» (то есть «японцев»). Они демократично менялись ролями, и каждый день «плохим» становился тот, кто накануне был «хорошим».
Минул год. Союзные войска осуществляли вторжение в Италию, а на Тихом океане янки отвоевывали назад Соломоновы острова.
Однажды брат Барни Уоррен проснулся посреди ночи с диким ревом. Температура у него была под сорок. Опасаясь самого страшного летнего бича полиомиелита, Эстел мгновенно завернула покрытого испариной ребенка в махровую простыню и понесла к соседям, чтобы показать доктору Кастельяно. Барни, перепуганный и смущенный, плелся сзади.
Луис еще не ложился. Он сидел в своем захламленном кабинете и читал какой-то медицинский журнал. Он ринулся мыть руки, после чего приступил к обследованию ребенка. Его крупные волосатые руки действовали на удивление проворно и аккуратно. Барни с благоговением наблюдал, как доктор смотрит Уоррену горло, затем выслушивает легкие, одновременно стараясь успокоить больного малыша.
— Ничего страшного, — шептал он, — ты для меня просто вдохни и выдохни, хорошо, nino? [2]
Инес Кастельяно тем временем быстро принесла тазик с холодной водой и губку.
Эстел от ужаса онемела, а Барни вцепился в цветастый халат матери. Наконец она набралась смелости и спросила:
— Это… не…
— Calmate[3], Эстелла, это не полиомиелит. Видите — у него скарлатинозная сыпь на груди? И на языке сосочки красные и увеличены. Это называется «алый язык». У мальчика скарлатина.
— Но это ведь тоже не шутки…
— Совершенно верно, поэтому нам необходимо раздобыть рецепт на какой-нибудь сульфаниламидный препарат. Скажем, пронтосил.
— А вы разве не…
Луис, стиснув зубы, объяснил:
— Я не имею права выписывать рецепты. У меня нет лицензии на медицинскую практику в этой стране. Как бы то ни было, едем. Барни побудет здесь, а мы тем временем возьмем такси и поедем в клинику.
По дороге в госпиталь Луис держал малыша Уоррена на руках и все время протирал ему шею и лоб влажной губкой. От его уверенных действий Эстел стало легче. Но то, что она от него услышала, не укладывалось у нее в голове.
— Луис, а я ведь думала, вы врач! Вы разве не в клинике работаете?
— Да, в лаборатории. Делаю анализы крови и мочи[4], — После паузы он добавил: — На родине я был врачом. И, смею думать, неплохим. Когда мы сюда приехали пять лет назад, я как безумный зубрил английский, перечитал все медицинские учебники и сдал экзамены. Но Госуправление все равно отказало мне в лицензии. По-видимому, для них я — опасный чужак. В Испании я принадлежал не к той партии.
— Но вы же сражались с фашистами!
— Да, но я был социалистом. А в Америке это почти синоним неблагонадежности.
— Безобразие!
— Bueno[5], могло быть и хуже.
— Куда уж хуже!
— Например, Франко мог меня арестовать.
В клинике диагноз Луиса немедленно подтвердился, и Уоррену дали рекомендованное им лекарство. После этого сестры обтерли мальчика с ног до головы смоченными в спирте губками, чтобы сбить температуру. К половине шестого утра ему полегчало настолько, что его можно было везти домой. Луис проводил Эстел с мальчиком до такси.
— А вы разве не едете? — удивилась она.
— Нет. No vale la репа[6]. Мне в семь надо быть в лаборатории. Останусь тут, может, удастся вздремнуть в приемном покое.
— Мам, а как я очутился в своей кровати?
— Солнышко, когда мы вернулись, было уже очень поздно, и ты спал на кушетке у Кастельяно. Мы с Инес отнесли вас с Уорреном домой.
— А с Уорреном все в порядке? — Барни еще не виделся с братом после больницы.
Эстел кивнула:
— Слава богу, у нас рядом есть доктор Кастельяно! Нам повезло с соседями!
На какую-то долю секунды Барни почувствовал зависть. У Лоры отец был не на войне, а дома. Порой он так скучал по отцу, что ощущал прямо-таки физическую боль.
Он ясно помнил тот день, когда отец уходил. Харольд поднял его и так сильно прижал к себе, что мальчик ощутил запах табака. И сейчас при виде закуривающего мужчины на Барни всякий раз накатывала тоска.
Но небольшое утешение у него все же было. В одном из окон на фасаде их дома красовался небольшой треугольный флажок с синей звездой по белому полю. По этому вымпелу всякий прохожий мог определить, что кто-то из членов семьи сейчас сражается за родину. На некоторых домах таких флажков было два, а то и три.
Как-то в декабре, возвращаясь вечером из кондитерской лавки, где братья Ливингстоны купили себе на пять центов «Тутси-ролс», Уоррен заметил на окне дома мистера и миссис Кан нечто необычное — на вымпеле фронтовика красовалась золотая звезда.
— Мам, а почему у них флажок красивее, чем у нас? — спросил он за ужином.
Эстел замялась, но потом тихо сказала:
— Потому что их сын… проявил особую доблесть.
— Думаешь, папе тоже такую дадут?
Чувствуя, что бледнеет, Эстел все же нашла в себе силы небрежно ответить:
— Понимаешь, малыш, этого никто не может знать заранее. Давай-ка ты лучше ешь брокколи.
Уложив детей спать, она вдруг сообразила, что на протяжении всего этого разговора Барни не издал ни звука. Может быть, он догадался, что Артур Кан, единственный сын в семье, пал в бою?
Потом, сидя в одиночестве за кухонным столом и изо всех сил внушая себе, что пьет не суррогат, а настоящий бразильский кофе, Эстел снова и снова припоминала неоднократные уверения Харольда, что ему, как переводчику, не придется подвергать себя опасности. («Радость моя, в переводчиков не стреляют!») Но разве не могло быть так, что из соображений безопасности он просто не называет ей своего настоящего местонахождения? Не было дня, чтобы какая-нибудь бруклинская семья не получала похоронки.
Тут Эстел услышала голос старшего сына. В нем звучали любовь и желание утешить.
— Мам, пожалуйста, не волнуйся! Он вернется.
Он стоял на пороге кухни в пижаме с физиономиями Микки-Мауса и в свои шесть с половиной лет пытался по собственной инициативе утешить мать. Она с улыбкой посмотрела на сына.
— Откуда ты знаешь, о чем я думаю? — удивилась она.
— В школе все знают про Арти Кана. Я даже видел, как одна училка плакала. Я раньше ничего не говорил, чтобы не пугать Уоррена. Но с папой все будет в порядке, обещаю тебе.
Откуда у тебя такая уверенность?
Он пожал плечами:
— Не знаю. Но если ты будешь беспокоиться, то станешь еще печальнее.
— Ты прав, Барни.
Она крепко обняла мальчика.
И тут ее утешитель резко переменил тему:
— Мам, а можно мне печеньице съесть?
1944 год был годом выдающимся. Войска союзников освободили Рим и Париж, а Франклин Делано Рузвельт — беспрецедентный случай — был переизбран на беспрецедентный четвертый срок. Спустя некоторое время американские войска освободили Гуам. Харольд Ливингстон позвонил домой аж из Калифорнии, чтобы сообщить, что его перебрасывают за океан. Куда точно, он сказать не мог, пояснил только, что от него ждут помощи в допросах японских военнопленных. Следующую весточку он обещал прислать по так называемой V-почте. Это были плохо читаемые миниатюрные послания, которые фотографировались на микропленку и печатались на вощеной серой бумаге.
Для Луиса Кастельяно этот год стал поворотным. Государственное медицинское управление пересмотрело свое решение и признало испанского иммигранта годным к врачебной практике в Соединенных Штатах Америки.
Несмотря на переполнявшее его чувство удовлетворения, Луис осознавал, что чиновники от медицины в этом решении руководствовались не столько его достоинствами, сколько тем обстоятельством, что практически все дееспособные врачи уже были в армии. Они с Инес быстро переоборудовали спальню первого этажа под кабинет. Луис взял в сберегательном банке «Дайм-Сейвингс» ссуду на приобретение рентгеновского аппарата.
— Papacito, а это для чего? — спросила трехлетняя Исабель, пока все четверо юных зевак с интересом наблюдали за установкой аппаратуры.
— Я знаю! — вызвался Барни. — Это чтобы заглядывать людям внутрь, правда, доктор Кастельяно?
— Ты угадал, мой мальчик, — кивнул тот и погладил Барни по голове. — Но у хорошего врача и без этого есть инструмент, чтобы, как ты говоришь, заглядывать людям внутрь. — Он показал на свой лоб. — Величайшим диагностическим инструментом в человеческом арсенале по-прежнему остается мозг.
Репутация Луиса быстро укреплялась, а вместе с ней ширилась и его практика. Он получил статус клинического специалиста и теперь мог отправлять анализы своих пациентов в ту самую лабораторию, где еще недавно собственноручно мыл пробирки.
Иногда, в качестве особого поощрения, детям разрешалось войти в его святая святых. Барни и Лоре позволялось трогать некоторые инструменты и осматривать в отоскоп уши младших — Уоррена и Исабель, а те, в свою очередь, могли послушать им легкие с помощью стетоскопа.
Соседи так сроднились, что стали почти одной семьей. Особую признательность к соседям питала Эстел Ливингстон. У нее, кроме матери, родственников не было, и если не удавалось пригласить няньку, бабушка вынуждена была приезжать на метро из Куинса и сидеть с внуками, пока Эстел работала в своей библиотеке.
Но Эстел понимала, что мальчикам необходимо мужское влияние, и не удивлялась, что со временем Барни и Уоррен стали прямо-таки боготворить сурового здоровяка доктора. Луис, со своей стороны, как будто тоже находил удовольствие в том, что у него появилось двое «сыновей».
Эстел и Инес по-настоящему сдружились. Каждый вторник они вдвоем выходили на ночное дежурство и обходили безмолвные, погруженные во мрак улицы, проверяя, во всех ли окнах погашен свет. И время от времени взглядывая на небо — не летят ли вражеские бомбардировщики?
Инес в сумерках чувствовала себя свободнее и легче посвящала подругу в свои раздумья.
Как-то раз, когда Эстел, без всякой задней мысли, спросила, не очень ли тяготят Инес бессонные ночи, та, к ее удивлению, ответила:
— Наоборот! Эти ночи напоминают мне о старых добрых временах. Вот только винтовки у меня теперь нет.
— И ты правда воевала?
— Да, amiga[7], и женщин среди нас имелось немало. Потому что у Франко была не только вся регулярная армия Испании, но и наемники из Марокко, которым он платил за их грязную работу. Для нас единственной возможной тактикой было внезапно напасть и моментально скрыться. Этих мясников было пруд пруди! Могу с гордостью сообщить, что нескольких я уложила своими руками.
Тут она сообразила, что ее подруга потрясена до глубины души.
— Постарайся понять, — продолжила Инес, — ведь эти негодяи даже детей не щадили!
— Гммм… Кажется, понимаю, — неуверенно проговорила Эстел, пытаясь примириться с мыслью, что эта женщина с таким нежным голосом убивала себе подобных.
По иронии судьбы и отец, и мать Инес были твердокаменными сторонниками не просто Франко, но и «Опус Деи» — этой церкви внутри церкви, которая поддерживала диктатуру.