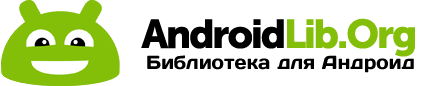AndroidLib » Читалка
\'Мы с истекшим сроком годности\' - Стейс Крамер
Вспышка.
Была зима. Я, Лив и Скотт играли в снежки. Мы бегаем, смеемся, как малые дети. Руки уже покраснели от снега и мороза. Скотт валит меня на снег и цепляется руками за мои запястья. Его ресницы покрыты инеем, отчего он выглядит очень забавным.
– Скотт, мне холодно.
Скотт наклоняется ко мне, и наши окоченевшие губы находят друг друга. Поначалу мне казалось, что я превратилась в ледышку, но после поцелуя я почувствовала, как начала медленно таять.
– А сейчас?
– Теплее…
Наши губы снова смыкаются, и теперь поцелуй длится намного дольше. Я забываю о морозе минус тридцать, о том, что моя одежда пропиталась снегом и теперь ее можно выжимать. Мне кажется, что меня положили в ванну, наполненную горячей водой, и вмиг мне становится хорошо.
– А теперь горячо, – говорю я.
Вспышка.
На этот раз вспышка была ярче предыдущих. Я открываю глаза. Меня вновь ослепляет белый свет. Веки кажутся такими тяжелыми, я не хочу моргать, потому что боюсь снова провалиться в то неземное пространство, где я была несколько секунд назад. Проходит минут пять, перед тем, как я осознаю, что нахожусь в больнице. В теле чувствуется дискомфорт. Мышцы спины и рук ломит, во рту пересохло. Замечаю трубку капельницы, воткнутую мне в вену. Голову стягивает бинт, на лице маска аппарата искусственной вентиляции легких. Вижу, как возле меня спит мама, сидя на стуле. Состояние такое, будто я проспала вечность.
– Мама… – шепчу я, – мам, мама.
Ее веки приподнимаются, и, увидев меня в сознании, мама мигом вскакивает со стула, хватает меня за руку и начинает рассматривать.
– Господи, Господи… Вирджиния, как ты… как ты себя чувствуешь? – От волнения мама начинает запинаться. Она снимает с меня маску.
– Нормально…
– Я сейчас позову доктора.
Мама выбегает в коридор. Ощущаю какую-то тяжесть в теле. Кажется, что все мои мышцы окостенели. В некоторых местах кожу сильно стягивает, вероятно, там швы или еще что-то. О том, что со мной происходило, пока я была без сознания, я могу лишь догадываться.
В палату мама заходит в компании доктора. Его очертания расплываются перед моими глазами.
– Ну, здравствуй, Вирджиния, как самочувствие?
– Она сказала, что чувствует себя нормально, – отвечает за меня мама.
– Ты помнишь, что с тобой произошло?
Я киваю. Боже, как же сильно затекла шея, очень больно ею поворачивать.
– Я… ехала на машине и…
– И попала в жуткую аварию. Но тебе очень повезло. В редких случаях люди выживают в таких авариях. Ты перенесла три операции, провела несколько дней без сознания. Но теперь все страшное позади. Ты очень скоро поправишься и поедешь домой.
Смотрю на маму, ее веки полны слез.
– Мама, почему ты плачешь? – Произнесение каждого слова дается мне с трудом. Голос осип, губы совсем сухие.
– Да это я так… от счастья. Я думала, что больше никогда не услышу твой голос.
Чувствую сильную боль в позвоночнике, которая мешает мне глубоко вздохнуть. В этот же момент мною овладевает новое чувство. Это не чувство боли, не чувство дискомфорта. Это такое странное чувство, будто мне чего-то недостает. Такое ощущение, что мое тело вовсе не принадлежит мне. И только несколько минут спустя я, наконец, осознаю, чего мне не хватает. Я не чувствую своих ног. Я не могу пошевелить ступнями, и такое ощущение, что это вообще не мои ноги.
– Доктор… а почему я не чувствую своих ног? Это что, наркоз какой-то или еще что-то? – Мой голос дрожит, и я понимаю, что не хочу слышать ответа на свой вопрос.
Доктор еще минуту молчит и смотрит в пол.
– Видишь ли, Вирджиния, как я уже сказал, авария была серьезная, и то, что ты выжила, это поистине чудо. Но, к сожалению, каждая авария влечет за собой последствия. У тебя произошло сильное смещение нижних позвонков, спинной мозг поврежден, все это вызвало параплегию, иными словами, паралич нижних конечностей.
Его слова вонзились в мою грудь, словно сотни кинжалов. Я не могу сказать ни единого слова. Язык отказывается мне подчиняться. Я просто закрываю глаза и заставляю себя заснуть. Скорее всего, это какой-то страшный сон, я проснусь, и все снова вернется в привычное русло.
– Доктор, но ведь это же не навсегда? Ведь можно сделать операцию… мы заплатим любые деньги. – Я слышу, как мама начала рыдать.
– Увы, мы сделали все, что от нас зависело. Я знаю пару случаев, когда люди с таким же диагнозом, как у Вирджинии, вставали на ноги, так что, возможно, ей тоже повезет. Ну а пока, до ее выписки, вы должны подготовить ваш дом. Сделать поручни, оборудовать лестницу, купить кресло-туалет для инвалидов, ну и, соответственно, удобное инвалидное кресло.
ИНВАЛИДНОЕ. Я широко раскрываю глаза и начинаю дышать ртом. Физическая боль полностью затмевается той болью, которую нанесли мне его слова. Это не просто слова, это приговор. Я крепко сжимаю мамину ладонь.
– Нет… нет, нет! Это невозможно! – кричу я сквозь боль.
В палату сразу же вбегает медсестра.
– Срочно вколите ей успокоительного.
– Нет! Это ошибка!
Кровь смешивается с дозой успокоительного. Вмиг мои мышцы расслабляются, я отпускаю мамину руку. Замираю в одном положении. Последняя фраза, которую я слышу перед погружением в сон, это фраза доктора:
– Мне очень жаль, Вирджиния.
Часть 1. Поломка
Глава 1
Человек может долгое время находиться в состоянии полного безразличия к окружающему миру. Душа «умирает», а организм продолжает функционировать.
Первые два дня я заставляла себя не просыпаться, но из-за постоянной сухости во рту и жжения в горле мне приходилось пробуждаться ради глотка воды. Каждый день я просыпалась с надеждой, что все это сон. Я мечтала открыть глаза и увидеть потолок своей комнаты, но противный больничный запах вмиг разрушал все мои надежды. Каждый день я надеялась, что мои ноги «оживут», но все впустую. Они превратились в два бездушных «бревна». Однажды, когда я в очередной раз проснулась и снова поняла, что не могу шевелить пальцами ног, я закричала. Думаю, что мой крик слышала вся больница. Я кричала во всю глотку, не жалея голосовых связок. В палату забежали две медсестры, одна успокаивала меня и крепко сжимала руку, другая вводила мне иглу в вену с очередной дозой успокоительного. Возможно, я этого и добивалась. Когда я уже не могла себя заставить сомкнуть глаза и уснуть, я начинала кричать, чтобы меня насильно погрузили в сон. Сон для меня стал единственным средством спасения. Он спасал меня от той проклятой реальности, в которую я уже не желала возвращаться.
Меня перевели в обычную одиночную палату, здесь уже не было разнообразных пищащих устройств, которые лишний раз напоминали мне о моем положении. Я сразу влюбилась в тишину своей новой палаты. Далее начались жалкие «дни сопереживания». Все знакомые вмиг вспомнили о моем существовании и считали своим долгом прийти ко мне в палату, сделать унылую физиономию и сказать: «Я тебя понимаю». Врете! Вы ни черта не понимаете! Мне хотелось, мне очень хотелось им это сказать, но я не могла. Поначалу физически, ибо из-за постоянных криков я повредила свой голосовой аппарат. Но потом я начала симулировать. Мне не хотелось ни с кем разговаривать. Мама практически каждый день дежурила у моей кровати. Я чувствовала, как ее раздражает мое молчание. Она сжимала мою ладонь и плакала. Ее слезы падали на мою кожу, оставляя блестящий мокрый след. Я слышала, как стонет ее душа.
Первые две недели Николас, так звали моего лечащего врача, запрещал мне двигаться. Это был крупный седовласый мужчина, который, как мне казалось, относился ко мне не как к живому, больному человеку, а как к биоматериалу, который он ежечасно пичкал разнообразными препаратами со страшными названиями.
Вокруг меня то и дело бегали усталые медсестры, подносили стакан воды, поправляли одеяло, выносили судно из-под меня. Не дай Бог никому испытать такое отвратительное чувство, когда из-под тебя, взрослого человека, выносят твое собственное дерьмо, а ты не в силах даже поблагодарить за это. На третьей неделе я уже могла находиться в позе полусидя. Поначалу мне казалось, что мне вместо мышц вшили железки, потому что они были настолько жесткими, в прямом смысле, что мне становилось страшно. Николас сказал, что у меня легкая спастика мышц.
В конце четвертой недели доктор сообщил родителям о том, что я успешно поправляюсь. Швы срослись, кости крепнут. Мама с папой «расцвели» от счастья.
Лив старалась меня навещать как можно чаще. Это был единственный человек, который приходил ко мне не с кислой миной и общался со мной так, будто бы ничего не произошло. Я благодарна ей за это.
На пятой неделе я могла сидеть. С большим усилием я смогла сесть, для меня это был настоящий подвиг. Я даже заплакала от счастья. Правда, сидеть мне разрешили по 2–3 минуты в день. Доктор сказал, что это очень большая нагрузка на позвоночник.
– И что, даже если ей воткнуть иглу в ногу, она не почувствует?
– Нина, перестань нас донимать идиотскими вопросами. – Мама, папа и моя сестра, вновь меня навестили. – Мы привезли тебе фрукты, а еще я испекла твой любимый тыквенный пирог. Да, и я тут захватила с собой новые журналы и пару книг, чтобы тебе не было скучно.
Мама стоит около меня с шуршащим белым пакетом в руках, смотрит в мои глаза и ждет, когда же я скажу хоть одно коротенькое словечко.
– Еще мы купили вот что. – Папа встает со стула, открывает дверь палаты, и в следующее мгновение я слышу скрип колес инвалидной коляски. – Сказали, что она самая лучшая, удобная.
Я отворачиваюсь. С трудом сглатываю ком в горле.
– Вирджиния… – слышу я голос мамы. – Господи, ну скажи ты хоть что-нибудь.
– Рэйчел, не мучай ее. Она скажет тогда, когда будет готова.
Мама подходит ко мне, целует в лоб. В нос ударяет приятный запах ее любимых духов.
– Мы заедем к тебе завтра.
Родители и Нина покидают мою палату. Я снова посмотрела на коляску, внутри меня что-то затряслось, веки наполнились слезами. Меня обдало жаром, как только я представила, что всю оставшуюся жизнь я проведу сидя в инвалидном кресле.
Оливия все-таки заставила меня «выйти» на улицу. Она взялась за поручни моего кресла и уверенно покатила меня к лифту. За все время, проведенное в больнице, я ни разу не «выходила» из своей палаты. Во-первых, я не хотела видеть таких же несчастных пациентов, как я, видеть таких же поникших духом их родственников.
Во-вторых, я никак не могла себя заставить сесть в инвалидное кресло. Сесть в него – значит смириться со своим приговором. Смириться со своей жалкой жизнью, с тем, что теперь я узник своего собственного тела. Но Николас мне чуть ли не приказным тоном, в присутствии Лив, сказал, чтобы я немедленно начала хоть немного двигаться. На моей нежной коже начали появляться пролежни, спастика мышц становилась все отчетливее. Несмотря на все уговоры, я снова закатила истерику и сказала, что мне наплевать на появившиеся пролежни, пусть даже моя кожа будет целыми пластами разлагаться, а мышцы до кондиции одеревенеют, но я ни за что не сяду в кресло. Ни. За. Что. Лив пропустила мои слова мимо ушей и приказала доктору насильно взять меня на руки и посадить в кресло.
Каждый скрип колес кресла откликался неописуемой болью внутри меня. Меня, словно огромной океанической волной, накрывало этой болью. Я сравниваю инвалидов-колясочников с несчастными обездоленными жучками, которые случайно перевернулись на спину и не могут вернуться в привычное положение. Эти жучки всегда вызывали во мне жалость. Кстати о жалости. Теперь я понимаю, что жалость – это самое отвратительное чувство, которое есть на свете. Еще хуже испытывать жалость к самому себе, что я сейчас и делаю. Вот совсем недавно я, Вирджиния Абрамс, ни о чем другом не думала, кроме как о своем парне, университете и возможных новых знакомствах. Это так страшно, когда твоя жизнь в одночасье разворачивается на 180 градусов. Но еще страшнее, когда обстоятельства гораздо сильнее тебя и тебе ничего другого не остается, как смириться или продолжать бороться, как тот маленький жучок.
– Классная погода, – говорит Лив.
– Да…
И действительно. Для Миннесоты эта погода очень странная. Яркое, палящее солнце, согретый светилом ветер нежно ударяет в лицо. Я никогда не была во дворе больницы, лишь из окна своей палаты, которая стала для меня вторым домом, я слышала разговоры пациентов, смех, шелестение зеленой листвы и далекий шум проезжающих мимо машин. Во дворе довольно мило, разнообразные фонтанчики, множество клумб с яркими цветами, источающими одурманивающий аромат. А еще здесь очень много деревьев с величественными кронами. Пока мы гуляли с Лив, я насчитала восемь гнезд неизвестных мне птиц. Весь этот двор похож на маленький рай для бедных пациентов. Тут же прослеживается такой грубый контраст: во дворе все хорошо, все смеются, наслаждаются общением с родственниками, а в темном, расположенном рядом здании, в операционной, лежит больной, или же в какой-нибудь палате мучительно умирает пациент, крепко сжимая ладонь родного человека. Вот она, тонкая, едва заметная грань между жизнью и смертью.
– Слушай, ты ведь уже больше месяца в этой больнице. Неужели они не могут тебя отпустить домой?
– Каждый день я просыпаюсь с этим вопросом, и каждый день я не нахожу на него ответа.
– С ума сойти. – Немного помолчав, Лив снова задает мне вопрос, – А Скотт навещал тебя?
– Нет.
За все это время я ни разу не подумала о Скотте. В моей голове лишь были мысли о том, как я буду продолжать свое существование и вообще смогу ли я так жить. Существовать.
– Вот урод! Ну как можно быть таким?! Ты ведь для него не чужой человек, неужели так трудно прийти и узнать, как ты себя чувствуешь?
– Лив, пожалуйста, не надо. Он стал для меня чужим, и я сама не хочу его видеть.
– Прости.
На этот раз наше молчание затянулось. Лив катит мою коляску по узенькой дорожке, я вновь рассматриваю деревья и ищу гнезда.
– Кстати, я завтра уезжаю.
– Что? – Я сделала вид, будто не расслышала Оливию, но на самом деле я услышала ее фразу и ее слова заставили мое сердце биться, как после введения адреналина.
– Уезжаю в Чикаго. Рейс в половине первого.
Как я уже отметила, Лив единственный человек, который лишний раз не напоминает о моем диагнозе. Общаясь с ней, я снова, пусть и на жалкие минуты, возвращаюсь на месяц назад, когда я была обычной девчонкой, с обычными девчоночьими мыслями. Потерять Лив, значит, потерять эту маленькую ниточку, которая связывает меня с моей прошлой, счастливой жизнью.
Лив останавливает коляску, подходит ко мне и садится на корточки, взяв меня за руку.
– Я очень рада за тебя, – говорю я, чувствуя, что вот-вот расплачусь.
– Джина, если хочешь, я откажусь от этой поездки и останусь с тобой.
– С ума сошла? Упускать такой шанс из-за жалкой инвалидки? Ну уж нет.
– Ты не жалкая инвалидка, слышишь? – Я замечаю, как у Лив заблестели глаза от слез.
– Я не смогу тебя проводить.
– Понимаю. Я буду звонить тебе по скайпу, обещаю.
Мне крепко обнимаемся. Я дышу ей в шею и чувствую, как и у меня полились слезы.
– Я верю, что у тебя все получится.
Мама с папой приходили ко мне каждый день и рассказывали какие-то глупые истории, например, как у нашего соседа Дилана родила собака или как сотрудница папы вышла на днях замуж. Хотя я вообще понятия не имею, что это за сотрудница. Всю неделю меня то и дело возили на какие-то анализы, делали магнитно-резонансную томографию головного мозга и выявили посттравматическую энцефалопатию. Из-за этого в мой каждодневный рацион препаратов добавились новые, после приема которых меня не раз тошнило и схватывало живот. Я чувствовала себя лет на двадцать постаревшей. От всех капельниц, побочных эффектов, удручающих разговоров медсестер меня спасало чтение книг. Мама принесла чуть ли не всю нашу домашнюю библиотеку, за что я ей очень благодарна. Я снова не выходила на улицу и целыми днями читала книги, которые стали для меня своеобразным антидепрессантом и обезболивающим. Также сидя в пустой палате в полном одиночестве, я размышляла о том, какой же наш человеческий организм хрупкий. Сегодня ты полон сил и энергии, можешь делать все, что угодно, и ни от кого не зависеть, а завтра из-за какой-то роковой травмы ты превратишься в овощ, в обузу для своих близких. В первые дни мне казалось, что мой организм особенный, не такой, как все, и что врачи ошибаются. Я надеялась, как полная идиотка, что где-то там что-то там срастется, восстановится и я снова вернусь к нормальной жизни. Я думаю, такие мысли посещают каждого человека.
Неожиданно дверь палаты открывается и заходит Николас.
– Вирджиния, – говорит он, приближаясь к моей кровати.
– Здравствуйте.
– Как себя чувствуешь?
– Стабильно.
– Я принес тебе отличную новость. Через два дня ты отправляешься домой.
Я думала, что сейчас взлечу от радости. Как же я мечтала о выписке, о том чтобы снова увидеть стены родного дома. Это была действительно отличная новость.
– Серьезно? – спрашиваю я, расплываясь в улыбке.
– Да, мы тебя и так достаточно здесь продержали, я представляю, как тебе надоели эти белые стены и противный запах, меня уже и самого это раздражает. Раз в неделю к тебе домой будет приезжать медсестра и ставить уколы, которые необходимы для твоих мышц и костей.
Я замечаю в руках Николаса какую-то черную непонятную вещь.
– Что это?
– Это корсет. Твоему позвоночнику сейчас нужна помощь, нужно уменьшить на него нагрузку, поэтому по шесть часов в день ты обязана носить этот корсет.
Я приподнимаю больничную рубашку, Николас надевает на меня корсет, и тут я понимаю, что мои мучения еще не закончились. Корсет так сильно сдавил мою грудную клетку, что стало трудно дышать, мне казалось, что вот-вот треснут мои ребра. Но плюс в этом корсете действительно был. Теперь я могла делать более резкие движения, активно приподниматься и снова возвращаться в положение лежа.
Глава 2
Пока доктор Николас Халлиган подписывал бумаги для выписки и родители внимательно слушали его рекомендации по моему уходу, я листала разнообразные буклеты, хаотично разбросанные на журнальном столике, и наткнулась на одну интересную статью об инвалидах. Оказывается, после того, как лечащий врач вам провозглашает ваш «приговор», а иначе диагноз, наступают четыре стадии. 1-я стадия – СТРАХ. Я помню, когда месяц назад Николас объявил о том, что у меня параплегия или парапарез нижних конечностей, я испытала самый настоящий страх. Страх перед неизбежностью, который обволакивает твое нутро и полностью подчиняет тебя себе. 2-я стадия – БОРЬБА. Наступает такой период, когда тебе кажется, что все врачи полные идиоты, чему их только учат в их университетах. Надеясь на врачебную ошибку, ты пытаешься настроиться на своеобразную борьбу со своим же организмом, но когда понимаешь, что ты абсолютно бессилен, наступает 3-я стадия – ОТЧАЯНИЕ. Именно на этой стадии опускаются руки и пропадает стимул к жизни, который наблюдается у всех здоровых людей. Именно тогда твой мир делится на «Они» – здоровые люди и «Я» – человек-геморрой для врачей и родственников. Затем, если повезет, наступает последняя, 4-я стадия – СМИРЕНИЕ. Когда ты просто взял и смирился со своим приговором и начинаешь заново жить. Существовать.