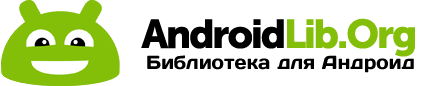AndroidLib » Читалка
\'Ромовый дневник\' - Хантер Томпсон
Ромовый дневник
Хантер Стоктон Томпсон
Чак Паланик и его бойцовский клуб
Пуэрто-Рико.
Остров, на котором невозможно работать – а можно сойти с ума, спиться или влюбиться. Или все сразу.
Здесь теплая компания журналистов коротает время в местном кабаке, где они методично наливаются ромом и ведут беседы о том, как дошли до жизни такой.
Здесь молодой репортер Пол Кемп получает важные профессиональные и жизненные уроки.
Здесь скучно и нечего делать.
Именно поэтому то, что начиналось как ленивый южный адюльтер, семимильными шагами мчится к настоящей трагедии…
Любовь, выпивка, смерть – а что, собственно, нужно еще?
Хантер С. Томпсон
Ромовый дневник
Посвящается Хайди Опхайм, Мэрисью Руд и Дейне Кеннеди
Всадник мой с глазами ясными,
Что случилось с тобой вчера?
Покупала тебе я обновочки,
Все гадала: вернешься когда?
Твой гнедой уж здесь; седло алое.
«От крови», – подсказала родня.
Я-то верила: во всем свете нет
Никого, кто сильнее тебя.
Черная Айлин О’Коннелл, 1773 г.
Hunter S. Thompson
The Rum Diary
Перевод с английского
Печатается с разрешения The Estate of Hunter S. Thompson и литературного агентства The Wylie Agency (UK) Ltd.
Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству AST Publishers.
Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.
© The state of Hunter S. Thompson, 1998
Сан-Хуан, зима 1958 г.
В начале пятидесятых, когда Сан-Хуан еще только становился туристским городом, экс-жокей по имени Ал Арбонито построил бар на заднем дворе своего дома, что стоял на Кайе-О’Лири. Он назвал его «Алов дворик» и повесил вывеску над парадным входом, со стрелкой, указующей на проход к патио[1 - патио (исп.) – открытый внутренний дворик.] между двумя полуразвалившимися халупами. Поначалу он торговал только пивом, по двадцать центов за бутылку, и ромом: дайм[2 - дайм – десять центов.] за стопку, или пятнарик, если со льдом. Спустя несколько месяцев он стал подавать гамбургеры, которые сам же и готовил.
Уютное было местечко для выпивки, особенно по утрам, когда солнце еще прохладное, а с океана наползает солоноватый туман, придающий воздуху бодрящий здоровый привкус, который на короткие ранние часы удерживал свои позиции против душного, потогонного пекла, к полудню бравшего Сан-Хуан в клещи и державшегося часами после вечерней зари.
По вечерам здесь тоже было неплохо, хотя и не столь прохладно. Порой с моря поднимался бриз и, как правило, не обходил бар стороной благодаря отличному местоположению: «Алов дворик» стоял на самой верхушке холма Кайе-О’Лири, до того высоко, что если б в стенах патио имелись окна, можно было бы увидеть весь город у подножия. Впрочем, стена была сплошной и толстенной, так что смотреть оставалось только на небо да на рощицу банановых деревьев.
Шло время; Ал приобрел новый кассовый аппарат, потом купил складные деревянные столики для патио и, наконец, перебрался с семьей из дома на Кайе-О’Лири в пригородный urbanizacion[3 - Urbanizaciоn (исп.) – квартал новостроек; жилой массив.], что возле аэропорта. Он нанял детину-негра по кличке Трубочист, который мыл посуду, разносил гамбургеры и в конечном итоге выучился стряпать.
Свою старую гостиную Ал превратил в крошечную таверну с «живой» музыкой, причем пианист у него был из Майами: худющий печальноликий мужчина по имени Нельсон Отто. Инструмент поставили на полпути между коктейльным салоном и патио. Это был древний кабинетный рояль, окрашенный в светло-серый цвет и покрытый специальным шеллачным лаком для защиты от соленого воздуха – и семь дней в неделю, на протяжении всех двенадцати месяцев бесконечного карибского лета, Нельсон Отто сидел за клавишами, смешивая собственный пот с вымученными аккордами своей музыки.
В туристическом бюро любят вещать о прохладных пассатах, которые днем и ночью, круглый год ласкают-де берега Пуэрто-Рико, однако Нельсон Отто, судя по всему, был тем человеком, до которого пассаты добраться не могли. Час за часом сидел он в спертом, душном воздухе, наигрывая каденции затасканного репертуара из блюзов и сентиментальных баллад, покамест пот пропитывал подмышки цветастых хлопковых батников и капал с подбородка. Он вовсю честил «хреново пекло», да с таким жаром и ненавистью, что порой вконец портил мирный настрой заведения; народ даже вставал и уходил в соседний «Фламбойан-лаунж», где бутылка пива стоила шестьдесят центов, а стейк шел по три с полтиной.
Когда бывший коммунист по фамилии Лоттерман пожаловал из Флориды и взялся издавать «Сан-Хуан дейли ньюс», «Алов дворик» превратился в англоязычный пресс-клуб, потому как никто из журналистских перекати-поле и мечтателей, прибывших работать на новую газету Лоттермана, не мог позволить себе посидеть в дорогущих барах типа «Нью-Йорк», которые там и сям выскакивали в городе как неоновые поганки. Репортеры дневной смены и клерки толпами вваливались примерно в семь, а полуночники – то бишь ведущие спортивных колонок, редакторы и верстальщики – обычно прибывали en masse[4 - En masse (фр.) – толпой; скопом.] где-то к двенадцати. Порой у Ала назначались и свидания, хотя обычным вечером любая девушка смотрелась здесь редкостной и эротичной штучкой. Белых женщин в Сан-Хуане вообще насчитывалось маловато; по большей части это были либо туристки, либо шлюшки, либо стюардессы. Неудивительно, что они предпочитали казино или бар-террасу в «Хилтоне».
Кто только не шел работать в «Дейли ньюс»: разношерстная публика от диких младотурков, хотевших разорватъ мир напополам и начать все заново, до усталых «негров» от журналистики с пивными животиками, которые ничего так не хотели, как дожить оставшиеся деньки в покое, пока шайка оголтелых психов не разорвала мир напополам.
В их лице была представлена вся палитра, от подлинных талантов и честнейших душ до дегенератов и безнадежных неудачников, едва ли способных заполнить словами почтовую открытку… Хулиганистые оболтусы, беглые преступники и опасные пьяницы; один кубинец, мелкий магазинный вор, вечно таскавший пистолет под мышкой; слабоумный мексиканец, растлитель малолеток; сутенеры, педерасты и прочие язвы – если не сказать твердый шанкр – на теле человечества. Все они держались недолго, пока не зарабатывали на авиабилет и несколько стопок выпивки сверху.
С другой стороны, имелись и такие, как Том Вандервиц, который позднее трудился в «Вашингтон пост» и получил Пулитцеровскую премию. А еще был человек по фамилии Тиррелл, нынешний редактор «Лондон таймс», вкалывавший по пятнадцать часов в сутки лишь бы не дать газете загнуться.
К моменту моего появления «Дейли ньюс» исполнилось три года, и Эд Лоттерман был на краю нервного срыва. Если послушать его заявления, так могло показаться, что он сидит на каждом перекрестке и самого себя видит триединым сочетанием Господа Бога, мистера Пулитцера и Армии Спасения в одном лице. Он частенько говаривал, что если бы все те люди, что работали на его газету на протяжении прошедших лет, в один прекрасный день предстали перед троном Вседержителя – то есть если бы они там встали и пересказали историю своей жизни со всеми вывертами, преступлениями и сдвигами по фазе, – то сам Господь выдрал бы себе половину волос и свалился в обморок.
Понятное дело, Лоттерман преувеличивал; в своей филиппике он забыл про славных и добрых людей, а вещал лишь про тех, кого именовал «винными башками». Впрочем, таковых было отнюдь не мало, и они представляли собой странную и буйную гоп-компанию. В лучшем случае на них нельзя было положиться, а в худшем… Да что там говорить: пьянь, грязь – и доверия меньше чем козлам-провокаторам. Хотя они все же умудрялись держать газету на плаву; а свободное время многие из них убивали за выпивкой в «Аловом дворике».
Они взвыли и забрюзжали, когда Ал – «в припадке жадности», если верить недоброжелателям – поднял плату за пиво до четвертака; и продолжали ныть, пока он не додумался пришпилить листок с ценами на спиртное в «Карибском Хилтоне». Прейскурант конкурентов был накорябан черным карандашом и висел на виду за барной стойкой.
Коль скоро газета функционировала в качестве расчетной палаты для всякого писаки, горе-фотографа и полуграмотного мошенника, заброшенного судьбой в Пуэрто-Рико, Ал решил извлечь не вполне очевидную выгоду и от этого направления бизнеса. Ящичек под кассовым аппаратом был вечно набит неоплаченными счетами и письмами со всего света, заверявшими «погасить долг в близком будущем». Бродячие журналисты – народец жуковатый и любит «кинуть», к тому же солидный непогашенный счет за барные посиделки может смотреться модным бременем в глазах тех, кто путешествует по этому неприкаянному миру.
Собутыльников в те времена хватало с избытком. Такие знакомства длились недолго, зато народ валил толпой. Я их именую бродячими журналистами, потому как не получается подобрать иного, столь же удачного термина. И каждый из них – уникум в своем роде. Профессиональные извращенцы, хотя отдельные их черты были общими. Они зависели – по большей части по привычке – от журналов и газет, приносивших подавляющую часть средств к существованию; их жизни были «заточены» под сомнительные шансы и внезапные перемещения; и еще они не знали верности какому бы то ни было флагу, а из всех валют ценили только удачу да связи.
В кое-ком имелось больше от журналиста, нежели от бродяги, другие были скорее бродягами, чем журналистами, но все они – с небольшими, впрочем, исключениями – работали внештатниками, фрилансерами и почти что «нашими зарубежными корреспондентами», которые, в силу той или иной причины, обретались на далеком расстоянии от журналистского истеблишмента. Их не назовешь усердными дятлами или ура-патриотическими попугаями, что заполняли собой штат рутинерских газет и еженедельников империи Люса[5 - Люс, Генри Робинсон (1898–1967): издатель «Тайм», журнала «Форчун», иллюстрированного еженедельника «Лайф». Закоренелый консерватор республиканского толка.]. Не того полета птички.
В тихой гавани Пуэрто-Рико штаты «Дейли ньюс» были укомплектованы толпой из сварливых, кочующих особей. Перемещались они наобум, носимые ветрами слухов и стечений обстоятельств, что овевали Европу, Латинскую Америку и Дальний Восток, – словом, всюду, где имелись англоязычные газеты. Они вечно скакали из одного издания в другое, постоянно держа ушки на макушке на предмет пресловутого «великого шанса», классного репортажа, а то и просто высматривали себе богатую наследницу или аппетитное местечко с работой в духе «не бей лежачего» – на том конце следующего по счету авиабилета.
В каком-то смысле я был одним из них – более компетентный, да и психически более устойчивый, чем многие представители журналистской шатии-братии; безработица редко выпадала на мою долю. Порой я трудился на три газеты сразу. Кропал рекламки для новых казино и боулинг-клубов; консультировал синдикат, организовывавший петушиные бои; советовал до мозга костей продажному гастрономическому критику, освещавшему фешенебельные рестораны; давал справки яхтенному фотографу, вечному страдальцу от полицейского произвола… Жизнь бурлила, и я был жаден до нее. Обзавелся кое-какими любопытными друзьями, да и деньгами, позволявшими не сидеть на месте, и в целом узнал о мире столько, сколько ни за что бы не смог узнать любым иным путем.
Подобно большинству в моем тогдашнем окружении, я был вечно в поиске, в движении; записной мятежник, буянивший порой до глупости. Ни разу не сделал себе передышки, чтобы пораскинуть мозгами, хотя отчего-то верил в правоту моих инстинктов. Я разделял праздный оптимизм, будто кое-кто из нас серьезно продвигается вперед, что мы выбрали себе честную дорогу и что лучшие из нас обязательно перевалят через гребень.
В то же время я разделял и темное подозрение, что жизнь, которую мы вели, была полной безнадегой, что все мы – балаганные шуты и своей бессмысленной одиссеей обманываем самих себя. Лишь неослабное натяжение между двумя этими полюсами – с одной стороны, неугомонным идеализмом, а с другой – предчувствием грядущего рокового конца – давало мне силы идти дальше.
Один
Моя нью-йоркская квартира располагалась на Перри-стрит, в пяти минутах ходьбы от «Белой лошади». Я частенько там выпивал, но не вписывался в компанию, потому как носил галстук. Настоящий народ не хотел иметь со мной дела.
В тот вечер, когда я вылетел в Сан-Хуан, я тоже там пил. За эль платил Фил Роллинз, с которым мы вместе работали, и я лакал из стакана, пытаясь достаточно набраться, чтобы в полете заснуть. С нами был Арт Миллик, самый отчаянный таксист Нью-Йорка. И еще пришел Дюк Питерсон, только что вернувшийся с Виргинских островов. Помнится, Питерсон дал мне список людей, с которыми следует повидаться на Сент-Томасе; листок этот я потерял и ни с кем из них так и не встретился.
Стояла промозглая погода середины января, но на мне был лишь легкий вельветовый пиджак. Все остальные носили плотные куртки и фланелевые костюмы. Последнее воспоминание: я стою на грязном бордюрном камне, жму руку Роллинзу и кляну ледяной ветер с Гудзона. Затем я забрался в такси Миллика и проспал всю дорогу до аэропорта.
Я слегка запоздал, и к стойке уже выстроилась очередь. Я занял место за доброй дюжиной пуэрториканцев и одной миниатюрной блондинкой, что стояла в нескольких шагах от меня. Она смахивала на туристку, бойкую молоденькую секретаршу, отправляющуюся за двухнедельным разгульным приключением на Карибы. Небольшая изящная фигурка и нетерпеливая манера держаться, говорившая о массе запасенной энергии. Я не спускал с нее глаз, чувствуя эль в жилах, и поджидал, что она вот-вот обернется, и мы на миг встретимся глазами.
Девушка получила билет и направилась к самолету. Передо мной оставалось еще три пуэрториканца. Двое из них обилетились и пошли дальше, а вот третий застрял из-за того, что клерк отказывался признавать его громадную картонную коробку за ручную кладь. Пока они спорили, я скрипел зубами.
Наконец я не выдержал:
– Эй! Что за дела вообще? Тут люди на самолет опаздывают!
Клерк вскинул глаза, пропуская вопли коротышки мимо ушей.
– Фамилия? – спросил он.
Я назвал ему мою фамилию, получил билет и кинулся к выходу. Добравшись до самолета, я ловко вклинился впереди пяти-шести человек, что поджидали очереди на посадку, показал билет ворчливой стюардессе и очутился внутри салона, где тут же обежал взглядом кресла по обеим сторонам прохода.
Ни единой блондинки в виду. Тогда я поспешил вперед, думая, что из-за ее маленького роста голова вообще могла не высовываться за спинку. Однако ее не оказалось на борту, а к этому времени из свободных мест оставалось лишь два сдвоенных кресла. Я упал на ближайшее и положил свою пишущую машинку на сиденье возле иллюминатора. Двигатели уже запускали, когда я посмотрел в окно и увидел, как она бежит поперек летного поля, отчаянно махая стюардессе, которая собиралась закрыть дверь.
– Стойте! – крикнул я. – Вон еще один человек!
Я следил за ней, пока блондинка не достигла нижних ступенек трапа. Только я обернулся с обаятельной улыбкой и сунулся было за своей пишмашинкой, чтобы поставить ее на пол, как некий старец нагло протиснулся мимо моих коленей и плюхнулся на сиденье, которое я так старательно сберегал.
– Занято, – быстро сказал я, хватая его за руку.
Он ее выдернул, огрызнулся по-испански и повернул голову к окну.
Я схватил его снова.
– Вставайте!
Он разорался, а девушка тем временем как раз прошла мимо и остановилась в нескольких футах впереди, подыскивая место.
– Вот свободное, – сказал я, резко дергая старика с кресла. Не успела она обернуться, как на меня накинулась стюардесса.
– Да он на мою пишущую машинку сел, – объяснил я, уныло следя за тем, как девушка подыскала себе место далеко впереди, в носовой части салона.
Стюардесса потрепала старика по плечу и помогла ему усесться обратно.
– Что вы за хулиган такой? – сказала она мне. – По-хорошему, вас бы с рейса надо снять!
Я ворчливо откинулся на спинку. Старик же смотрел прямо перед собой до самого взлета.
– Козел ты старый, – пробормотал я ему.
Он даже не моргнул.
Наконец я закрыл глаза и попробовал заснуть, время от времени посматривая на светловолосую голову, что виднелась впереди. Потом свет вырубили.
Когда я проснулся, уже брезжило. Старик пока что спал, и я перегнулся к иллюминатору. В нескольких тысячах футах под нами океан был темно-синим и спокойным, как озеро. Впереди виднелся остров, ярко-зеленый в рассветном солнце. Вдоль его кромки шла полоска пляжей, а вглубь тянулись бурые болота. Самолет пошел на снижение, и стюардесса велела пристегнуть ремни безопасности.
Через несколько минут мы пронеслись поверх пальмовых деревьев и подрулили к большому терминалу. Я решил оставаться в кресле, пока мимо не пройдет та девушка; тогда я бы встал и пошел рядом с ней по летному полю. А поскольку, кроме нас двоих, белых людей на борту не было, то и выглядело бы это вполне естественно.
Народ уже стоял, болтал и смеялся, поджидая, пока стюардесса откроет выход. Тут старец вдруг вскочил и попытался пролезть прямо по моим коленкам как собака. Не думая, я отшвырнул его назад к окну, и он приложился с тяжелым глухим звуком, от которого все притихли. Не желая угомониться, он вновь попытался пролезть по мне, издавая истерические крики на испанском.
– Ты! Психованный старый ублюдок! – заорал я, отталкивая его одной рукой, а вторую протягивая за пишмашинкой. Дверь уже открыли, и пассажиры струились наружу. Мимо прошла та девушка, и я улыбнулся ей, придерживая старца пришпиленным к окну, чтобы я смог вылезти в проход. Он же устроил такое представление своими воплями и размахиванием руками, что я испытал искушение перетянуть его ремнем за горло.
Тут появилась стюардесса, а за ней по пятам и второй пилот, который потребовал объяснить, чем я тут занимаюсь.
– Он этого старика избивает прямо с вылета из Нью-Йорка, – заявила стюардесса. – Садист, наверное.
Они задержали меня минут на десять, и поначалу я даже думал, что закончится все арестом. Я попробовал рассказать, в чем дело, но был таким измотанным и обескураженным, что то и дело сивался. Когда же меня наконец отпустили, я удрал с борта как преступник, моргая и истекая потом под солнцем, пока шел по летному полю к залу выдачи багажа.
Там было полно пуэрториканцев, а девушка как сквозь землю провалилась. Сейчас надежда ее увидеть иссякла вконец, да и не испытывал я оптимизма насчет будущих перспектив. Мало найдется девушек, которые благосклонно отнесутся к типам вроде меня, сущим насильникам, любящим издеваться над престарелыми. Я припомнил то выражение, с каким она меня разглядывала, пока я прижимал старца к иллюминатору. Бр-р… Тогда я решил перекусить, а багаж забрать попозже.
Сан-хуанский аэропорт – элегантное модерновое сооружение, полное ярких красок, загорелых людей и латиноамериканских ритмов, гремевших из динамиков, что были развешены на голых стальных фермах под потолком. Я поднялся по длинной эстакаде, с пишмашинкой и пиджаком в одной руке и маленьким кожаным портфелем – в другой. Указатели привели меня к еще одной эстакаде, а затем и к кафе. Входя внутрь, я в зеркале мельком увидел себя самого: неряшливого замарашку, бледного бродягу с красными глазами.
Хантер Стоктон Томпсон
Чак Паланик и его бойцовский клуб
Пуэрто-Рико.
Остров, на котором невозможно работать – а можно сойти с ума, спиться или влюбиться. Или все сразу.
Здесь теплая компания журналистов коротает время в местном кабаке, где они методично наливаются ромом и ведут беседы о том, как дошли до жизни такой.
Здесь молодой репортер Пол Кемп получает важные профессиональные и жизненные уроки.
Здесь скучно и нечего делать.
Именно поэтому то, что начиналось как ленивый южный адюльтер, семимильными шагами мчится к настоящей трагедии…
Любовь, выпивка, смерть – а что, собственно, нужно еще?
Хантер С. Томпсон
Ромовый дневник
Посвящается Хайди Опхайм, Мэрисью Руд и Дейне Кеннеди
Всадник мой с глазами ясными,
Что случилось с тобой вчера?
Покупала тебе я обновочки,
Все гадала: вернешься когда?
Твой гнедой уж здесь; седло алое.
«От крови», – подсказала родня.
Я-то верила: во всем свете нет
Никого, кто сильнее тебя.
Черная Айлин О’Коннелл, 1773 г.
Hunter S. Thompson
The Rum Diary
Перевод с английского
Печатается с разрешения The Estate of Hunter S. Thompson и литературного агентства The Wylie Agency (UK) Ltd.
Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству AST Publishers.
Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.
© The state of Hunter S. Thompson, 1998
Сан-Хуан, зима 1958 г.
В начале пятидесятых, когда Сан-Хуан еще только становился туристским городом, экс-жокей по имени Ал Арбонито построил бар на заднем дворе своего дома, что стоял на Кайе-О’Лири. Он назвал его «Алов дворик» и повесил вывеску над парадным входом, со стрелкой, указующей на проход к патио[1 - патио (исп.) – открытый внутренний дворик.] между двумя полуразвалившимися халупами. Поначалу он торговал только пивом, по двадцать центов за бутылку, и ромом: дайм[2 - дайм – десять центов.] за стопку, или пятнарик, если со льдом. Спустя несколько месяцев он стал подавать гамбургеры, которые сам же и готовил.
Уютное было местечко для выпивки, особенно по утрам, когда солнце еще прохладное, а с океана наползает солоноватый туман, придающий воздуху бодрящий здоровый привкус, который на короткие ранние часы удерживал свои позиции против душного, потогонного пекла, к полудню бравшего Сан-Хуан в клещи и державшегося часами после вечерней зари.
По вечерам здесь тоже было неплохо, хотя и не столь прохладно. Порой с моря поднимался бриз и, как правило, не обходил бар стороной благодаря отличному местоположению: «Алов дворик» стоял на самой верхушке холма Кайе-О’Лири, до того высоко, что если б в стенах патио имелись окна, можно было бы увидеть весь город у подножия. Впрочем, стена была сплошной и толстенной, так что смотреть оставалось только на небо да на рощицу банановых деревьев.
Шло время; Ал приобрел новый кассовый аппарат, потом купил складные деревянные столики для патио и, наконец, перебрался с семьей из дома на Кайе-О’Лири в пригородный urbanizacion[3 - Urbanizaciоn (исп.) – квартал новостроек; жилой массив.], что возле аэропорта. Он нанял детину-негра по кличке Трубочист, который мыл посуду, разносил гамбургеры и в конечном итоге выучился стряпать.
Свою старую гостиную Ал превратил в крошечную таверну с «живой» музыкой, причем пианист у него был из Майами: худющий печальноликий мужчина по имени Нельсон Отто. Инструмент поставили на полпути между коктейльным салоном и патио. Это был древний кабинетный рояль, окрашенный в светло-серый цвет и покрытый специальным шеллачным лаком для защиты от соленого воздуха – и семь дней в неделю, на протяжении всех двенадцати месяцев бесконечного карибского лета, Нельсон Отто сидел за клавишами, смешивая собственный пот с вымученными аккордами своей музыки.
В туристическом бюро любят вещать о прохладных пассатах, которые днем и ночью, круглый год ласкают-де берега Пуэрто-Рико, однако Нельсон Отто, судя по всему, был тем человеком, до которого пассаты добраться не могли. Час за часом сидел он в спертом, душном воздухе, наигрывая каденции затасканного репертуара из блюзов и сентиментальных баллад, покамест пот пропитывал подмышки цветастых хлопковых батников и капал с подбородка. Он вовсю честил «хреново пекло», да с таким жаром и ненавистью, что порой вконец портил мирный настрой заведения; народ даже вставал и уходил в соседний «Фламбойан-лаунж», где бутылка пива стоила шестьдесят центов, а стейк шел по три с полтиной.
Когда бывший коммунист по фамилии Лоттерман пожаловал из Флориды и взялся издавать «Сан-Хуан дейли ньюс», «Алов дворик» превратился в англоязычный пресс-клуб, потому как никто из журналистских перекати-поле и мечтателей, прибывших работать на новую газету Лоттермана, не мог позволить себе посидеть в дорогущих барах типа «Нью-Йорк», которые там и сям выскакивали в городе как неоновые поганки. Репортеры дневной смены и клерки толпами вваливались примерно в семь, а полуночники – то бишь ведущие спортивных колонок, редакторы и верстальщики – обычно прибывали en masse[4 - En masse (фр.) – толпой; скопом.] где-то к двенадцати. Порой у Ала назначались и свидания, хотя обычным вечером любая девушка смотрелась здесь редкостной и эротичной штучкой. Белых женщин в Сан-Хуане вообще насчитывалось маловато; по большей части это были либо туристки, либо шлюшки, либо стюардессы. Неудивительно, что они предпочитали казино или бар-террасу в «Хилтоне».
Кто только не шел работать в «Дейли ньюс»: разношерстная публика от диких младотурков, хотевших разорватъ мир напополам и начать все заново, до усталых «негров» от журналистики с пивными животиками, которые ничего так не хотели, как дожить оставшиеся деньки в покое, пока шайка оголтелых психов не разорвала мир напополам.
В их лице была представлена вся палитра, от подлинных талантов и честнейших душ до дегенератов и безнадежных неудачников, едва ли способных заполнить словами почтовую открытку… Хулиганистые оболтусы, беглые преступники и опасные пьяницы; один кубинец, мелкий магазинный вор, вечно таскавший пистолет под мышкой; слабоумный мексиканец, растлитель малолеток; сутенеры, педерасты и прочие язвы – если не сказать твердый шанкр – на теле человечества. Все они держались недолго, пока не зарабатывали на авиабилет и несколько стопок выпивки сверху.
С другой стороны, имелись и такие, как Том Вандервиц, который позднее трудился в «Вашингтон пост» и получил Пулитцеровскую премию. А еще был человек по фамилии Тиррелл, нынешний редактор «Лондон таймс», вкалывавший по пятнадцать часов в сутки лишь бы не дать газете загнуться.
К моменту моего появления «Дейли ньюс» исполнилось три года, и Эд Лоттерман был на краю нервного срыва. Если послушать его заявления, так могло показаться, что он сидит на каждом перекрестке и самого себя видит триединым сочетанием Господа Бога, мистера Пулитцера и Армии Спасения в одном лице. Он частенько говаривал, что если бы все те люди, что работали на его газету на протяжении прошедших лет, в один прекрасный день предстали перед троном Вседержителя – то есть если бы они там встали и пересказали историю своей жизни со всеми вывертами, преступлениями и сдвигами по фазе, – то сам Господь выдрал бы себе половину волос и свалился в обморок.
Понятное дело, Лоттерман преувеличивал; в своей филиппике он забыл про славных и добрых людей, а вещал лишь про тех, кого именовал «винными башками». Впрочем, таковых было отнюдь не мало, и они представляли собой странную и буйную гоп-компанию. В лучшем случае на них нельзя было положиться, а в худшем… Да что там говорить: пьянь, грязь – и доверия меньше чем козлам-провокаторам. Хотя они все же умудрялись держать газету на плаву; а свободное время многие из них убивали за выпивкой в «Аловом дворике».
Они взвыли и забрюзжали, когда Ал – «в припадке жадности», если верить недоброжелателям – поднял плату за пиво до четвертака; и продолжали ныть, пока он не додумался пришпилить листок с ценами на спиртное в «Карибском Хилтоне». Прейскурант конкурентов был накорябан черным карандашом и висел на виду за барной стойкой.
Коль скоро газета функционировала в качестве расчетной палаты для всякого писаки, горе-фотографа и полуграмотного мошенника, заброшенного судьбой в Пуэрто-Рико, Ал решил извлечь не вполне очевидную выгоду и от этого направления бизнеса. Ящичек под кассовым аппаратом был вечно набит неоплаченными счетами и письмами со всего света, заверявшими «погасить долг в близком будущем». Бродячие журналисты – народец жуковатый и любит «кинуть», к тому же солидный непогашенный счет за барные посиделки может смотреться модным бременем в глазах тех, кто путешествует по этому неприкаянному миру.
Собутыльников в те времена хватало с избытком. Такие знакомства длились недолго, зато народ валил толпой. Я их именую бродячими журналистами, потому как не получается подобрать иного, столь же удачного термина. И каждый из них – уникум в своем роде. Профессиональные извращенцы, хотя отдельные их черты были общими. Они зависели – по большей части по привычке – от журналов и газет, приносивших подавляющую часть средств к существованию; их жизни были «заточены» под сомнительные шансы и внезапные перемещения; и еще они не знали верности какому бы то ни было флагу, а из всех валют ценили только удачу да связи.
В кое-ком имелось больше от журналиста, нежели от бродяги, другие были скорее бродягами, чем журналистами, но все они – с небольшими, впрочем, исключениями – работали внештатниками, фрилансерами и почти что «нашими зарубежными корреспондентами», которые, в силу той или иной причины, обретались на далеком расстоянии от журналистского истеблишмента. Их не назовешь усердными дятлами или ура-патриотическими попугаями, что заполняли собой штат рутинерских газет и еженедельников империи Люса[5 - Люс, Генри Робинсон (1898–1967): издатель «Тайм», журнала «Форчун», иллюстрированного еженедельника «Лайф». Закоренелый консерватор республиканского толка.]. Не того полета птички.
В тихой гавани Пуэрто-Рико штаты «Дейли ньюс» были укомплектованы толпой из сварливых, кочующих особей. Перемещались они наобум, носимые ветрами слухов и стечений обстоятельств, что овевали Европу, Латинскую Америку и Дальний Восток, – словом, всюду, где имелись англоязычные газеты. Они вечно скакали из одного издания в другое, постоянно держа ушки на макушке на предмет пресловутого «великого шанса», классного репортажа, а то и просто высматривали себе богатую наследницу или аппетитное местечко с работой в духе «не бей лежачего» – на том конце следующего по счету авиабилета.
В каком-то смысле я был одним из них – более компетентный, да и психически более устойчивый, чем многие представители журналистской шатии-братии; безработица редко выпадала на мою долю. Порой я трудился на три газеты сразу. Кропал рекламки для новых казино и боулинг-клубов; консультировал синдикат, организовывавший петушиные бои; советовал до мозга костей продажному гастрономическому критику, освещавшему фешенебельные рестораны; давал справки яхтенному фотографу, вечному страдальцу от полицейского произвола… Жизнь бурлила, и я был жаден до нее. Обзавелся кое-какими любопытными друзьями, да и деньгами, позволявшими не сидеть на месте, и в целом узнал о мире столько, сколько ни за что бы не смог узнать любым иным путем.
Подобно большинству в моем тогдашнем окружении, я был вечно в поиске, в движении; записной мятежник, буянивший порой до глупости. Ни разу не сделал себе передышки, чтобы пораскинуть мозгами, хотя отчего-то верил в правоту моих инстинктов. Я разделял праздный оптимизм, будто кое-кто из нас серьезно продвигается вперед, что мы выбрали себе честную дорогу и что лучшие из нас обязательно перевалят через гребень.
В то же время я разделял и темное подозрение, что жизнь, которую мы вели, была полной безнадегой, что все мы – балаганные шуты и своей бессмысленной одиссеей обманываем самих себя. Лишь неослабное натяжение между двумя этими полюсами – с одной стороны, неугомонным идеализмом, а с другой – предчувствием грядущего рокового конца – давало мне силы идти дальше.
Один
Моя нью-йоркская квартира располагалась на Перри-стрит, в пяти минутах ходьбы от «Белой лошади». Я частенько там выпивал, но не вписывался в компанию, потому как носил галстук. Настоящий народ не хотел иметь со мной дела.
В тот вечер, когда я вылетел в Сан-Хуан, я тоже там пил. За эль платил Фил Роллинз, с которым мы вместе работали, и я лакал из стакана, пытаясь достаточно набраться, чтобы в полете заснуть. С нами был Арт Миллик, самый отчаянный таксист Нью-Йорка. И еще пришел Дюк Питерсон, только что вернувшийся с Виргинских островов. Помнится, Питерсон дал мне список людей, с которыми следует повидаться на Сент-Томасе; листок этот я потерял и ни с кем из них так и не встретился.
Стояла промозглая погода середины января, но на мне был лишь легкий вельветовый пиджак. Все остальные носили плотные куртки и фланелевые костюмы. Последнее воспоминание: я стою на грязном бордюрном камне, жму руку Роллинзу и кляну ледяной ветер с Гудзона. Затем я забрался в такси Миллика и проспал всю дорогу до аэропорта.
Я слегка запоздал, и к стойке уже выстроилась очередь. Я занял место за доброй дюжиной пуэрториканцев и одной миниатюрной блондинкой, что стояла в нескольких шагах от меня. Она смахивала на туристку, бойкую молоденькую секретаршу, отправляющуюся за двухнедельным разгульным приключением на Карибы. Небольшая изящная фигурка и нетерпеливая манера держаться, говорившая о массе запасенной энергии. Я не спускал с нее глаз, чувствуя эль в жилах, и поджидал, что она вот-вот обернется, и мы на миг встретимся глазами.
Девушка получила билет и направилась к самолету. Передо мной оставалось еще три пуэрториканца. Двое из них обилетились и пошли дальше, а вот третий застрял из-за того, что клерк отказывался признавать его громадную картонную коробку за ручную кладь. Пока они спорили, я скрипел зубами.
Наконец я не выдержал:
– Эй! Что за дела вообще? Тут люди на самолет опаздывают!
Клерк вскинул глаза, пропуская вопли коротышки мимо ушей.
– Фамилия? – спросил он.
Я назвал ему мою фамилию, получил билет и кинулся к выходу. Добравшись до самолета, я ловко вклинился впереди пяти-шести человек, что поджидали очереди на посадку, показал билет ворчливой стюардессе и очутился внутри салона, где тут же обежал взглядом кресла по обеим сторонам прохода.
Ни единой блондинки в виду. Тогда я поспешил вперед, думая, что из-за ее маленького роста голова вообще могла не высовываться за спинку. Однако ее не оказалось на борту, а к этому времени из свободных мест оставалось лишь два сдвоенных кресла. Я упал на ближайшее и положил свою пишущую машинку на сиденье возле иллюминатора. Двигатели уже запускали, когда я посмотрел в окно и увидел, как она бежит поперек летного поля, отчаянно махая стюардессе, которая собиралась закрыть дверь.
– Стойте! – крикнул я. – Вон еще один человек!
Я следил за ней, пока блондинка не достигла нижних ступенек трапа. Только я обернулся с обаятельной улыбкой и сунулся было за своей пишмашинкой, чтобы поставить ее на пол, как некий старец нагло протиснулся мимо моих коленей и плюхнулся на сиденье, которое я так старательно сберегал.
– Занято, – быстро сказал я, хватая его за руку.
Он ее выдернул, огрызнулся по-испански и повернул голову к окну.
Я схватил его снова.
– Вставайте!
Он разорался, а девушка тем временем как раз прошла мимо и остановилась в нескольких футах впереди, подыскивая место.
– Вот свободное, – сказал я, резко дергая старика с кресла. Не успела она обернуться, как на меня накинулась стюардесса.
– Да он на мою пишущую машинку сел, – объяснил я, уныло следя за тем, как девушка подыскала себе место далеко впереди, в носовой части салона.
Стюардесса потрепала старика по плечу и помогла ему усесться обратно.
– Что вы за хулиган такой? – сказала она мне. – По-хорошему, вас бы с рейса надо снять!
Я ворчливо откинулся на спинку. Старик же смотрел прямо перед собой до самого взлета.
– Козел ты старый, – пробормотал я ему.
Он даже не моргнул.
Наконец я закрыл глаза и попробовал заснуть, время от времени посматривая на светловолосую голову, что виднелась впереди. Потом свет вырубили.
Когда я проснулся, уже брезжило. Старик пока что спал, и я перегнулся к иллюминатору. В нескольких тысячах футах под нами океан был темно-синим и спокойным, как озеро. Впереди виднелся остров, ярко-зеленый в рассветном солнце. Вдоль его кромки шла полоска пляжей, а вглубь тянулись бурые болота. Самолет пошел на снижение, и стюардесса велела пристегнуть ремни безопасности.
Через несколько минут мы пронеслись поверх пальмовых деревьев и подрулили к большому терминалу. Я решил оставаться в кресле, пока мимо не пройдет та девушка; тогда я бы встал и пошел рядом с ней по летному полю. А поскольку, кроме нас двоих, белых людей на борту не было, то и выглядело бы это вполне естественно.
Народ уже стоял, болтал и смеялся, поджидая, пока стюардесса откроет выход. Тут старец вдруг вскочил и попытался пролезть прямо по моим коленкам как собака. Не думая, я отшвырнул его назад к окну, и он приложился с тяжелым глухим звуком, от которого все притихли. Не желая угомониться, он вновь попытался пролезть по мне, издавая истерические крики на испанском.
– Ты! Психованный старый ублюдок! – заорал я, отталкивая его одной рукой, а вторую протягивая за пишмашинкой. Дверь уже открыли, и пассажиры струились наружу. Мимо прошла та девушка, и я улыбнулся ей, придерживая старца пришпиленным к окну, чтобы я смог вылезти в проход. Он же устроил такое представление своими воплями и размахиванием руками, что я испытал искушение перетянуть его ремнем за горло.
Тут появилась стюардесса, а за ней по пятам и второй пилот, который потребовал объяснить, чем я тут занимаюсь.
– Он этого старика избивает прямо с вылета из Нью-Йорка, – заявила стюардесса. – Садист, наверное.
Они задержали меня минут на десять, и поначалу я даже думал, что закончится все арестом. Я попробовал рассказать, в чем дело, но был таким измотанным и обескураженным, что то и дело сивался. Когда же меня наконец отпустили, я удрал с борта как преступник, моргая и истекая потом под солнцем, пока шел по летному полю к залу выдачи багажа.
Там было полно пуэрториканцев, а девушка как сквозь землю провалилась. Сейчас надежда ее увидеть иссякла вконец, да и не испытывал я оптимизма насчет будущих перспектив. Мало найдется девушек, которые благосклонно отнесутся к типам вроде меня, сущим насильникам, любящим издеваться над престарелыми. Я припомнил то выражение, с каким она меня разглядывала, пока я прижимал старца к иллюминатору. Бр-р… Тогда я решил перекусить, а багаж забрать попозже.
Сан-хуанский аэропорт – элегантное модерновое сооружение, полное ярких красок, загорелых людей и латиноамериканских ритмов, гремевших из динамиков, что были развешены на голых стальных фермах под потолком. Я поднялся по длинной эстакаде, с пишмашинкой и пиджаком в одной руке и маленьким кожаным портфелем – в другой. Указатели привели меня к еще одной эстакаде, а затем и к кафе. Входя внутрь, я в зеркале мельком увидел себя самого: неряшливого замарашку, бледного бродягу с красными глазами.